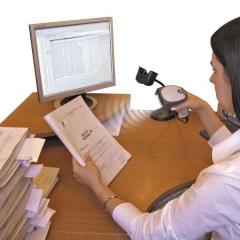Укрытие для реактора. Сила сильных
- Как действовал механизм под названием НОТ?
В нашу группу входило четыре человека, все опытные инженеры. Работа строилась по плану и была направлена на выполнение годовых и пятилетних заданий Минсредмаша. Нас координировал совет НОТ комбината, председательствовал главный инженер УЭХК. Совет занимался планированием, важнейшие мероприятия или показатели включали в коллективный договор и строго контролировали. А вот сами мероприятия разрабатывали творческие бригады подразделений.
- Судя по всему, ставка была сделана на инициативу снизу?
Совершенно верно. Благодаря такому доверию люди поняли, что они это делают для себя. И с большим позитивом относились к переменам, авторами которых становились сами. Дирекция не скупилась на необходимое оборудование. Хотя у меня не раз случались неприятные разговоры с начальником планового отдела: мол, вам дают такие деньги, а где же отдача? А отдача, убеждал я, в реализованных в рамках НОТ мероприятиях - в результате и технологический процесс улучшается, и персонал трудится с огоньком.
- С чего начинали?
Важным признали все: и чтобы шкаф в раздевалке был удобным, и в столовой горячий обед ждал, и чтобы рабочее место - не с перекошенной тумбой и разбитым ящиком… Перво-наперво творческие бригады занялись рабочими местами. Причем с применением современной оснастки: удобные столы с вентиляцией, отличные тумбы, стеллажи - и все в едином стиле. Эстетика производства налицо. Ежегодно наш комбинат тратил на оргоснастку десятки тысяч рублей. А ее разработкой и изготовлением ведало проектное бюро с мощной производственной базой - НИИКБОР в Электростали. К слову, мы в то время решили деликатную проблему. Обувь и одежду персонала, работающего на улице - под дождем и снегом, требовалось сушить. Для этого были придуманы специальные шкафы с подогревом и вытяжкой.
- А как боролись с ручным трудом?
Как обычно, применили научный подход. Для механизации и автоматизации провели инвентаризацию рабочих мест. И на каждом определили коэффициент ручного труда. По спецметодике Минсредмаша анализировали, где нужны дополнительные механизмы. Так, во вспомогательных цехах комбината появились новые электроинструменты.
Была проведена и инвентаризация профессий - слесарей, электриков, технологов, прибористов - на предмет должностных обязанностей и загрузки.
- В те годы в цехах появились и прародители компьютеров…
Это мы называли внедрением прогрессивных устройств. Помню, какую гордость испытывал главный инженер объекта 68 (завод запасных частей и конструкций) Юрий Гребенкин, когда для его производства был приобретен первый на УЭХК графопостроитель. Вскоре на комбинате в массовом порядке начали устанавливать персональные компьютеры, а затем и систему АСУТП на базе мощных вычислительных машин.
- Какими успехами отметился комбинат в рамках НОТ?
К 1984 году на УЭХК все крупные подразделения и некоторые цеха были признаны образцовыми по НОТ и управлению производством. Однако этим дело не заканчивалось: готовились новые планы поддержания организации труда в цехе на образцовом уровне. И через каждые три года это почетное звание нужно было подтверждать.
Успехи в НОТ вознаграждались не только морально, но и материально: премии получали руководители образцовых коллективов и самые активные участники творческих бригад.
- А не приходилось ли вам, образно говоря, получать по шапке?
Самая большая трудность заключалась не в том, чтобы выполнить все планы, а чтобы вовремя доложить в министерство, причем правильно…
Обычно УЭХК отчитывался в январе. А с декабря мы начинали трясти подразделения - собирайте данные. Но, по русской традиции, все тянули до последнего. Наша же головная боль - все сведения сбить в единый документ. Иной раз шли на перевыполнение задания главка. Но руководство от нас требовало не все показывать, оставлять задел на следующий год. Вот и старались и себя не перехвалить, и по загривку не получить. Кстати, последнего испытать, слава богу, ни разу не довелось. Дисциплина была железная. Никогда не отказывали себе в удовольствии остаться после трудового дня - надо так надо.
Жанна Апакшина
Первым руководителем отрасли был начальник Первого Главного управления при Совете Народных комиссаров СССР Борис Львович Ванников . Человек драматичной судьбы, выходец из когорты создателей обычных вооружений, народный комиссар вооружений, разжалованный и арестованный за семнадцать дней до начала Великой Отечественной войны , а вскоре освобожденный из мест заключения и назначенный наркомом боеприпасов. Трудился он, как говорится, не покладая рук, и уже в 1942 году за исключительные заслуги перед государством в деле обеспечения фронта новыми видами артиллерийского и стрелкового оружия был удостоен звания Героя Социалистического Труда .
20 августа 1945 года, при организации Спецкомитета и Первого Главного управления, Борис Львович был назначен заместителем председателя Спецкомитета и начальником ПГУ .
Самые насыщенные героическим трудом больших научных и производственных коллективов четыре года (1945-1949 гг.) позволили Советскому Союзу достичь ядерного паритета с США. За большой личный вклад в организацию работ по производству плутония и создание первой отечественной атомной бомбы Борису Львовичу Ванникову в октябре 1949 года второй раз было присвоено звание Героя Социалистического Труда, он первым стал дважды Героем Социалистического труда.
В июне 1953 года министром среднего машиностроения был назначен Вячеслав Александрович Малышев . Все военные годы он возглавлял наркомат танковой промышленности. Его неустанный титанический труд на этом посту по достоинству оценен присвоением ему звания Героя Социалистического Труда. В течение войны В. А. Малышев был на приемах у И. В. Сталина 107 раз.
Будучи министром среднего машиностроения, Вячеслав Александрович приложил немало сил к расширению направлений деятельности крупнейшей наукоемкой отрасли: оружейные дела дополнялись развитием атомной энергетики и созданием подводного и надводного атомных флотов.
В. А. Малышев был председателем Государственной комиссии по проведению испытания первой отечественной термоядерной бомбы РДС-6с , проведенного 12 августа 1953 года на Семипалатинском полигоне . Сразу после испытания Вячеслав Александрович вместе с другими руководителями (в том числе и с Андреем Дмитриевичем Сахаровым) побывал в эпицентре взрыва, где, даже спустя год, мощность дозы радиации превышала 400 рентген в час. Эта «прогулка» (как отметил А. Д. Сахаров в своих воспоминаниях) не могла не повлиять на здоровье её участников.
В 1954 году В. А. Малышев был назначен заместителем председателя Совета Министров СССР без освобождения от должности министра среднего машиностроения. В феврале 1955 года он был смещен с обоих постов и назначен председателем Государственного комитета по новой технике. В 1956 году по состоянию здоровья Вячеслав Александрович оставил работу. Скончался в 1957 году, похоронен в Москве у Кремлевской стены.
В феврале 1955 года министром среднего машиностроения становится Авраамий Павлович Завенягин . В отрасли он был не новичок, в качестве заместителя наркома внутренних дел был введен в состав Специального комитета по урановой проблеме, а через десять дней назначен первым заместителем начальника ПГУ при СНК СССР .
Работая в ПГУ первым заместителем (1945-1946 гг. и 1949-1953 гг.) и заместителем начальника (1946-1949 гг.), Авраамий Павлович отвечал за научно-производственный и строительный комплексы. За существенный вклад в разработку атомной бомбы в 1949 году ему было присвоено звание Героя Социалистического Труда, а в 1954 году он был вторично удостоен этого звания за выдающийся вклад в ускорение разработки термоядерных зарядов.
Скончался Авраамий Павлович 31 декабря 1956 года в возрасте 55 лет. Похоронен у Кремлевской стены.
С декабря 1956 года по апрель 1957 года обязанности министра исполнял Борис Львович Ванников . Отрасль работала, как хорошо налаженный механизм, но партийное и государственное руководство внимательно и порой придирчиво относилось к назначениям на ключевые посты в органах исполнительной власти. После смерти А. П. Завенягина понадобилось четыре месяца для принятия решения о назначении первого заместителя председателя Совета Министров СССР Михаила Георгиевича Первухина на пост министра среднего машиностроения.
Впервые к атомной проблеме М. Г. Первухин был подключен ещё в 1942 году, когда В. М. Молотов поручил ему как заместителю председателя СНК (1940-1946 гг.) разобраться в докладах разведорганов о проектах уран-графитовых реакторов и способах выделения изотопа урана-235 . В 1943-1945 гг. он был куратором атомного проекта со стороны Совнаркома.
В августе 1945 г. был включен в состав Спецкомитета, а 31 ноября этого же года становится председателем инженерно-технического совета при Спецкомитете. За вклад в разработку первой атомной бомбы в 1949 году он был удостоен звания Героя Социалистического Труда. В атомном проекте М. Г. Первухин отвечал за обеспечение работы первых предприятий по получению тяжелой воды, гексафторида урана и многих химических реагентов.
Министром среднего машиностроения он пробыл в 1957 году неполных три месяца - с 30 апреля по 24 июля.
В 1956-1958 гг. работал председателем Госкомитета СМ СССР по внешнеэкономическим связям, в 1958-1962 гг. был послом в ГДР, затем работал в Госплане . Скончался в 1978 году.
За успехи в труде Виталий Федорович награждён четырьмя орденами СССР и РФ, он лауреат Государственной премии СССР и премии имени Петра Великого ; кандидат технических наук.
После освобождения от должности министра атомной энергетики и промышленности СССР в период 1992-1996 гг. работал первым заместителем министра Российской Федерации по атомной энергии, президентом (1996-2000 гг.), первым вице-президентом ОАО «ТВЭЛ» (2000-2002 гг.), советником президента ОАО «ТВЭЛ» (2002-2007 гг.).
С ноября 1991 по март 1992 года отрасль работала в переходном режиме. 29 января 1992 года был подписан указ Президента Российской Федерации (№ 61) об образовании Министерства Российской Федерации по атомной энергии. Этому министерству теперь принадлежало около 80 % предприятий бывшего Минсредмаша СССР, 9 АЭС с 28 энергоблоками; число работавших составляло почти миллион человек.
После назначения в марте 1998 года министром Е. О. Адамова Виктор Никитович более года был первым заместителем министра, затем перешел на работу директором вновь образованного (ноябрь 1999 года) Института стратегической стабильности.
До назначения министром Евгений Олегович Адамов работал директором НИКИЭТ (Москва). Одним из существенных нововведений нового министра стал баланс консолидированных ресурсов и задач. Предложения и действия Евгения Олеговича были направлены на то, чтобы сосредоточить работу отрасли на основных приоритетных направлениях и, соответственно, оптимизировать распределение финансовых ресурсов по выполняемым задачам.
При Е. О. Адамове вышло постановление Правительства РФ о передаче работ по утилизации отслуживших свой срок атомных подводных лодок от ВМФ РФ Минатому. Потребовались максимальное напряжение сил и концентрация ресурсов, чтобы коренным образом изменить ситуацию к лучшему и увеличить число утилизируемых АПЛ с единиц до десятков в год.
Много сил было затрачено Е. О. Адамовым, его ближайшими соратниками и руководителями многих предприятий на разработку и принятие поправок к Закону о ввозе и переработке отработанного ядерного топлива с зарубежных атомных электростанций.
Е. О. Адамов был одним из ведущих участников подготовки документов по инициативе президента России об использовании оружейного плутония в атомной энергетике, выдвинутой им на «саммите тысячелетия». Он много сделал для достройки и запуска находившейся на многолетней консервации Ростовской АЭС .
За период с 1998-го по 2001 год Евгений Олегович шестью указами Президента России назначался министром РФ по атомной энергии, что было связано с проходившими тогда частыми сменами Правительства России.
А. Ю. Румянцев долгое время являлся членом Президиума Российской академии наук, и для него были небезразличны связи отрасли с прикладной наукой. Он сам инициировал совместные программы научных исследований институтов РАН с отраслевыми НИИ и поддерживал предложения других в этом направлении. Так, в 2002 году он лично возглавил совместную (Минатом - РАН) материаловедческую программу при ведущей роли РФЯЦ-ВНИИТФ с участием институтов Уральского отделения и других отделений Академии наук.
В марте 2004 года после преобразования Минатома в Федеральное агентство по атомной энергии (Росатом) Александр Юрьевич был назначен руководителем Агентства и проработал в этой должности до ноября 2005 года. С июня 2006 года - чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Финляндской Республике.
15 ноября 2005 года распоряжением Правительства РФ руководителем Федерального агентства по атомной энергии был назначен Сергей Владиленович Кириенко . С 12 декабря 2007 года указом Президента РФ Кириенко С. В. назначен генеральным директором Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом».
К ЧИТАТЕЛЯМ
 Это не просто имена – за скупыми фразами открываются судьбы неординарных людей, которые все свои знания, кипучую энергию, огромный практический и жизненный опыт отдавали строительству атомных объектов.
Это не просто имена – за скупыми фразами открываются судьбы неординарных людей, которые все свои знания, кипучую энергию, огромный практический и жизненный опыт отдавали строительству атомных объектов.
Сложное и противоречивое время рождало замечательных людей, способных воплотить в жизнь сложнейшие задачи, разрабатывать новые научные направления и покорять мирный атом. Двадцатый век был щедр на таких героев. История стройкомплекса атомной отрасли писалась воистину выдающимися деятелями: А.Н. Комаровским, В.А. Сапрыкиным, М.М. Царевским, Р.С. Зурабовым и многими другими. Они самоотверженно строили объекты атомной отрасли и заложили основу отечественной атомной промышленности. Плодами их труда мы пользуемся и по сей день. У каждого из них была своя судьба, но роднит их одно: это люди всесторонне образованные, требовательные и творческие, в обычной жизни были просты и неприхотливы, щедро делились полученными знаниями и опытом с молодым поколением.
Поэтому современным строителям атомной отрасли есть, у кого учиться, есть, на кого равняться, есть, у кого перенимать опыт. Быть строителем атомной отрасли сегодня — это не только большая честь, но и большая ответственность. Для успешного выполнения поставленных задач стройкомплексу атомной отрасли необходимы люди с широким кругозором, владеющими не одной, а сразу несколькими компетенциями, способными на деле применять самые современные технологии. Мы будем равняться на своих выдающихся предшественников, постараемся быть достойными их и продолжить столь важное для Отечества дело строительства атомной отрасли.
Уверен, что летопись героев-строителей атомной отрасли будет дополняться, в нее войдут имена и современных выдающихся представителей стройкомплекса Росатома.
Директор по капитальным вложениям Госкорпорации «Росатом»,
директор Отраслевого центра капитального строительства Г.С. Сахаров
САПРЫКИН Василий Андреевич (1890 – 1964 гг.)
 Сапрыкин В.А. родился на ст. Пришибское Кабардинской АССР в крестьянской семье. Окончил Ленинградский институт инженеров транспорта и получил специальность инженера-строителя путей сообщения. Трудовую деятельность начал в должности техника на строительстве железной дороги в районе Черноморского побережья. В 1925-1918 гг. В.А. Сапрыкин – начальник 56-го дорожно-мостового отряда управления работ Западного фронта.
Сапрыкин В.А. родился на ст. Пришибское Кабардинской АССР в крестьянской семье. Окончил Ленинградский институт инженеров транспорта и получил специальность инженера-строителя путей сообщения. Трудовую деятельность начал в должности техника на строительстве железной дороги в районе Черноморского побережья. В 1925-1918 гг. В.А. Сапрыкин – начальник 56-го дорожно-мостового отряда управления работ Западного фронта.
В период с 1918 г. по 1924 г. его деятельность была связана с лесным хозяйством: он начальник Вильнюсского лесного отдела, начальник Майкопского райлескома, заместитель начальника службы лесозаготовок управления Московско-Белорусско-Балтийской железной дороги. В 1924 г. В.А Сапрыкина назначают заместителем начальника отдела хозяйственных вспомогательных предприятий.
В 1931 г. Василий Андреевич возвращается к полученной в институте специальности строителя, становится главным инженером на различных крупных стройках страны. Это – Магнитострой, Архангельский судостроительный завод, Челябметаллургстрой и др.
С 1946 г. он начинает работать по атомному проекту и его назначают главным инженером, заместителем начальника строительства № 859 МВД СССР – (Южноуральское управление строительства). Это управление должно было построить уникальное предприятие по получению деталей из плутония для первой атомной бомбы. С участием В.А. Сапрыкина выбирались площадки для строительства комбината и нового города Челябинск-40. Строительство первого реактора на объекте «А» было затруднено тем, что проектная документация строителям поступала на отдельные элементы зданий, помещений и конструкций. О целостности сооружаемого объекта они не имели никакого представления. В таких условиях руководителям стройки надо было проявлять недюжинные способности для возведения сооружения. В процессе строительства комбината В.А. Сапрыкиным были предложены и внедрены многие новые методы работ: использование арматуры как несущей конструкции при выполнении работ по монолитному бетонированию «стакана» реактора, так называемых армокаркасов; применение в качестве опалубки несъемных железобетонных конструкций; был предложен целый комплекс организационно-технических мероприятий, сокращающих во многом тяжелую «тачечную» подачу бетона к месту укладки; были внедрены готовые арматурные сетки и каркасы, замена «ручной вязки» на сварку и многие другие мероприятия.
В 1948 г. на комбинате № 817 (комбинат «Маяк») был создан первый промышленный реактор, а также радиохимический завод по выделению плутония и химико-металлургическое производство, где был изготовлен первый плутониевый заряд для ядерной бомбы. Эти работы были по достоинству оценены руководством страны. В октябре 1949 г. за особые заслуги перед государством при выполнении специального задания Василию Андреевичу Сапрыкину было присвоено звание Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот».
Об исключительной важности данной стройки и создании этих трех производств говорит тот факт, что научными руководителями были выдающиеся советские ученые: И.В. Курчатов, В.Г. Хлопин, а химико-металлургического завода – А.А. Бочвар.
Под руководством В.А. Сапрыкина на Южном Урале был построен прекрасный город Озерск, в котором 16 марта 1973 г., в день 25-летия пуска первого промышленного атомного реактора, его именем была названа одна из улиц. Его труд был отмечен многими наградами: орденами Ленина, Трудового Красного Знамени, медалями и другими знаками отличия.
В.А. Сапрыкин – академик архитектуры при Академии художеств СССР. Полковник инженерно-технической службы.
ЦАРЕВСКИЙ Михаил Михайлович (1898 – 1975 гг.)
 Царевский М.М. родился в г. Лович бывшей Варшавской губернии (Польша). В 1910 г. окончил ремесленно-приходскую школу в г. Калуге. С 1912 г. по 1915 г. обучался в трехгодичной военно-фельдшерской школе, затем с 1917 г. по 1918 г. проходил службу старшим военным фельдшером во 2-ом лейбгусарском Павлоградском полку Западного фронта. Член партии большевиков с 1917 г.
Царевский М.М. родился в г. Лович бывшей Варшавской губернии (Польша). В 1910 г. окончил ремесленно-приходскую школу в г. Калуге. С 1912 г. по 1915 г. обучался в трехгодичной военно-фельдшерской школе, затем с 1917 г. по 1918 г. проходил службу старшим военным фельдшером во 2-ом лейбгусарском Павлоградском полку Западного фронта. Член партии большевиков с 1917 г.
С 1918 г. М.М. Царевский служил в Красной Армии, был командиром взвода, помощником начальника политотдела, помощником командующего войсками Московского военного округа, командиром кавалерийского дивизиона отряда особого назначения ВЧК г. Москвы.
С 1924 г. занимался административно-хозяйственной деятельностью. В течение года был начальником Административно-хозяйственного управления «Госрыбсиндикат» ВСНХ в Москве.
Начиная с 1925 г. вся последующая жизнь М.М. Царевского связана со строительством. Он работает на крупнейших стройках страны – гигантах отечественной промышленности. С 1925 г. по 1928 г. он помощник начальника строительства, с 1928 г. по 1930 г. – начальник строительства Балахнинского бумажного комбината. Затем до начала Великой Отечественной войны руководит строительством Горьковского автозавода, Нижне-Тагильского металлургического комбината, ЦАГИ (Центральный аэрогидродинамический институт), комбината «Северникель» в г. Мончегорске. Свою первую награду – орден Ленина в 1934 г. – получил за строительство Нижне-Тагильского металлургического комбината, второй орден Ленина в 1939 г. – за строительство комбината «Североникель».
С 1941 г. по 1942 г. М.М. Царевский – начальник Управления строительства оборонительных сооружений, командующий 2-й саперной армией и начальник оборонительных работ. Наметившийся перелом в ходе Великой Отечественной войны в результате разгрома оккупантов под Сталинградом вселил надежду на ее победный конец. Необходимо было думать о мирном развитии послевоенной промышленности. И уже в 1942 г. М.М. Царевский руководит строительством Актюбинского комбината, а в 1943 г. становится начальником Тагильского управления ИТЛ и строительства, а по совместительству – начальником лагеря военнопленных.
Начиная с 1946 г. его трудовая деятельность связана с атомным проектом. Он был назначен начальником Управления строительства комбината № 7 НКВД Эстонской ССР. Строительство комбината включало создание наземных построек – рудника и поселка в г. Силламяэ и перерабатывающего завода в Усть-Нарве.
В 1947 г. после инспекционных проверок и выявленного отставания от назначенных правительственных сроков по строительству комбината № 817 («будущий комбинат «Маяк»), руководство комбината и Южноуральского управления строительства было заменено. Комбинат № 817 возглавил Б.Г. Музруков вместо Е.П. Славского, а Управление строительства – М.М. Царевский вместо Я.Д. Раппопорта. Перед новым руководством были поставлены две основные задачи – строительство комбината № 817 и строительство лаборатории «Б» на озере Сунгуль. Сжатые сроки и большие объемы работ требовали увеличения количества строительных и монтажных организаций, наращивания производственных мощностей, решения вопросов комплектования кадрами и как следствие – решения возникающих социально-бытовых проблем.
В Южноуральском управлении строительства была создана централизованная служба монтажных работ, которую возглавил заместитель начальника Главпромстроя МВД П.Г. Георгиевский. Был сформирован специальный монтажный отряд, организованы курсы по подготовке рабочих монтажных профессий. Эти решения были своевременными и жизненно важными, так как на комбинате № 817 осуществлялось не только строительство, но и монтаж промышленных ядерных реакторов, радиохимического, металлургического и других заводов. С 1950 г. М.М. Царевский руководил строительством подземного комбината в г. Красноярске-26, а с 1953 г. – строительством в г. Томске-7, где создавались крупнейший атомный комбинат и Сибирская АЭС. В 1962 г. он возглавил Управление строительства № 620, которое приступило к сооружению вблизи г. Серпухова крупнейшего в мире ускорителя заряженных частиц – синхрофазотрона с энергией частиц 76 ГэВ, длиной орбиты 1, км, массой электромагнита 22 тысячи тонн.
Труд М.М. Царевского высоко оценен правительством, руководством министерства и общественными организациями. За достигнутые успехи в строительстве крупных предприятий отечественной атомной промышленности и жилых городов ему было присвоено звание Героя Социалистического Труда, он награжден пятью орденами Ленина, орденами Трудового Красного Знамени, Красного Знамени, двумя орденами Красной Звезды и многими медалями. В 1944 г. М.М. Царевскому был вручен знак «Заслуженный работник НКВД». В 1951 г. присуждена Сталинская премия I степени.
К 25-летию пуска в эксплуатацию первого в СССР промышленного реактора (15 марта 1973 г.) одной из улиц г. Озерская было присвоено имя М.М. Царевского.
ГЕОРГИЕВСКИЙ Петр Константинович (1902 – 1984 гг.)
 Георгиевский П.К. родился в Белозерском районе Вологодской области в семье сельского священника. Трудовую деятельность начал на лесопромышленном предприятии. В 1919 г. окончил курсы Петроградского военного округа. В 1920-1926 гг. был инструктором Череповецкого территориального полка в г. Белозерске, занимался комсомольской работой в уездном и губернском комитетах, служил краснофлотцем, судовым механиком на Балтийском флоте в г. Кронштадте, затем работал в Ленинграде – сначала слесарем, а потом заместителем директора на заводе «Красная вагранка».
Георгиевский П.К. родился в Белозерском районе Вологодской области в семье сельского священника. Трудовую деятельность начал на лесопромышленном предприятии. В 1919 г. окончил курсы Петроградского военного округа. В 1920-1926 гг. был инструктором Череповецкого территориального полка в г. Белозерске, занимался комсомольской работой в уездном и губернском комитетах, служил краснофлотцем, судовым механиком на Балтийском флоте в г. Кронштадте, затем работал в Ленинграде – сначала слесарем, а потом заместителем директора на заводе «Красная вагранка».
С 1930 г. по 1935 г. П.К. Георгиевский – студент Ленинградского индустриального института. После окончания института работал начальником механического цеха на строительстве Куйбышевского гидроузла, а с 1940 г. по 1942 г. – главным механиком в Управлении особого строительства в г. Куйбышеве. Затем был переведен заместителем главного инженера на «Челябметаллург-строй». Со второй половины 1944 г. П.К. Георгиевский работал главным инженером «Закавказметаллург-строя» в г. Рустави (Грузия).
После войны в стране начинается бурное строительство предприятий и объектов атомной отрасли. И в период 1945-1952 гг. П.К. Георгиевский в должности заместителя руководителя Главпромстроя МВД СССР занимается возведением и реконструкцией важнейших предприятий атомной промышленности. Его труд был по достоинству оценен правительством. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 29 октября 1949 г. ему было присвоено звание Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот».
С 1952 г. по 1953 г. Петр Константинович Георгиевский – заместитель министра внутренних дел СССР, а с 1953 г. по 1955 г. – заместитель начальника Главпромстроя МВД СССР. С 1955 г. по 1964 г. он начальник 12-го Главного (монтажного) управления Министерства среднего машиностроения СССР. В этот период им была проделана большая работа по успешному вводу в эксплуатацию многих объектов атомной отрасли.
В 1964-1979 гг. П.К. Георгиевский работал в должности заместителя министра среднего машиностроения, руководил строительной отраслью министерства. В этот период строительными и монтажными организациями был проделан колоссальный объем работ, построены и введены в строй с хорошим качеством объекты и целые комплексы для атомной отрасли. В последние годы Петр Константинович работал советником министра.
Он лауреат Сталинской премии, награжден орденами Ленина, Трудового Красного Знамени, Красной Звезды, Красного Знамени, «Знака Почета» и многими медалями.
Петр Константинович Георгиевский – заслуженный строитель РСФСР. Генерал-майор-инженер.
ЗУРАБОВ Роберт Сергеевич (1904 – 1991 гг.)
 Зурабов Р.С. родился в г. Баку. С 1919 г. по 1925 г. работал учеником слесаря, слесарем в Махачкале, учился на рабфаке в г. Ростове-на-Дону. В 1931 г. окончил Ленинградский электротехнический институт им. В.И. Ульянова (Ленина) и до 1936 г. работал преподавателем и научным сотрудником в этом институте. С 1936 г. по 1942 г. Р.С. Зурабов трудился на «Волгострое» НКВД СССР (г. Рыбинск) – сначала был начальником отделения проектного отдела, руководителем бюро электрооборудования, а затем начальником электромонтажного отдела. С 1942 г. по 1946 г. он начальник конторы механо-энергомонтажа и заместитель главного инженера «Тагилстроя» НКВД СССР в г. Нижнем Тагиле.
Зурабов Р.С. родился в г. Баку. С 1919 г. по 1925 г. работал учеником слесаря, слесарем в Махачкале, учился на рабфаке в г. Ростове-на-Дону. В 1931 г. окончил Ленинградский электротехнический институт им. В.И. Ульянова (Ленина) и до 1936 г. работал преподавателем и научным сотрудником в этом институте. С 1936 г. по 1942 г. Р.С. Зурабов трудился на «Волгострое» НКВД СССР (г. Рыбинск) – сначала был начальником отделения проектного отдела, руководителем бюро электрооборудования, а затем начальником электромонтажного отдела. С 1942 г. по 1946 г. он начальник конторы механо-энергомонтажа и заместитель главного инженера «Тагилстроя» НКВД СССР в г. Нижнем Тагиле.
В 1946 г. Р.С. Зурабова переводят в Усть-Нарву (Силламяэ, Эстония) руководителем Строительного управления горно-буровых работ Главпромстроя НКВД, а затем назначают начальником ИТЛ и Управления строительства № 907.
В конце 40-х – начале 50-х годов в стране начинает бурно развиваться атомная отрасль. Строятся новые города, производства, причем не только на базе ранее существовавших, а, как говорят, «на голом месте», в таежной глуши. На одной из таких строек, в Ангарске, в 1948 г. Р.С. Зурабов продолжает свою трудовую деятельность. Сначала в качестве главного инженера (до 1961 г.) Управления ИТЛ и Управления строительства № 16 МВД СССР, а затем становится начальником этого управления. Ангарск и нефтехимический комбинат «Гигант» — это детище Роберта Сергеевича.
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 8 августа 1958 г. за создание промышленных комплексов в г. Ангарске ему было присвоено звание Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот».
В декабре 1961 г. Р.С. Зурабов был переведен в Москву и назначен начальником Главного строительного управления Минсредмаша, которое он возглавлял 12 лет. В годы его руководства Управлением осуществлялось строительство и реконструкция предприятий и институтов в Москве, Навои, Степногорске и Шевченко (Казахстан), Обнинске и Мелекессе и других городах.
В 1973 г. Роберт Сергеевич Зурабов стал персональным пенсионером союзного значения. В г. Ангарске одна из улиц названа его именем.
МАЛЬЦЕВ Михаил Митрофанович (1904 – 1982 гг.)
 Мальцев М.М. родился на станции Никитовка Южной железной дороги (Украина). Участник гражданской войны.
Мальцев М.М. родился на станции Никитовка Южной железной дороги (Украина). Участник гражданской войны.
В 1935 г. М.М. Мальцев окончил энергетический факультет Новочеркасского индустриального института по специальности «инженер-электрик». Работать начал в организациях, подчиненных НКВД СССР. В конце 30-х годов М.М. Мальцев занимал должности помощника главного инженера, затем главного механика Волгостроя. В период 1941-1943 г.г. сражался на фронтах Великой Отечественной войны. Командовал 8-й и 10-й саперными армиями (Брянский, Южный и Сталинградский фронты). В 1943 г. М.М. Мальцеву было присвоено звание генерал-майора, и он был переведен на комбинат «Воркутауголь», начальников которого проработал до 1947 г. Затем Михаил Митрофанович получил назначение на должность начальника Саксонского управления ПГУ при Совете Министров СССР. Когда был создан комбинат «Висмут», М.М. Мальцев занял пост генерального директора.
Гигантский добывающий горно-обогатительный комбинат возник сразу после второй мировой войны в Руд-ных горах Саксонии (Восточная Германия). Здесь в обстановке строжайшей секретности вплоть до конца 80-х годов ХХ века добывали урановую руду, необходимую для советских ядерных программ. После 1953 г. комбинат «Висмут» был преобразован в советско-германское акционерное общество. Вплоть до 1986 г. во главе акционерного общества стояли советские специалисты.
29 октября 1949 г. М.М. Мальцеву за исключительные заслуги перед государством было присвоено звание Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот».
В 1951 г. было образовано Главное управление специального строительства (Спецстрой) СССР, и Михаил Митрофанович стал его первым директором. Задача, которая была поставлена перед новым ведомством, формулировалась так: в кратчайшие сроки создать системы ПВО вокруг Москвы и Ленинграда. Это ответственное задание, связанное с выполнением огромного объема строительных и монтажных работ, созданием специальных технических объектов и сооружений, было выполнено к намеченной дате. В дальнейшем Спецстрою СССР регулярно поручались самые сложные и ответственные строительно-монтажные работы. В том, что они выполнялись качественно и в срок, большая заслуга первого директора предприятия – Михаила Митрофановича Мальцева.
КОМАРОВСКИЙ Александр Николаевич (1906 – 1973 гг.)
 Комаровский А.Н. родился в Петербурге. В 1923-1927 гг. был старшим рабочим на строительстве. В 1928 г. окончил Московский институт инженеров транспорта.
Комаровский А.Н. родился в Петербурге. В 1923-1927 гг. был старшим рабочим на строительстве. В 1928 г. окончил Московский институт инженеров транспорта.
В 1927-1933 гг. он инженер в проектном бюро Свирьстроя. В 1933-1938 гг. работает на строительстве канала Москва-Волга начальником и главным инженером по эксплуатации канала, затем первым заместителем главного инженера на строительстве Куйбышевского гидроузла. С 1939 г. по 1941 г. был заместителем наркома Морского Флота СССР, потом начальником Главного управления спецгидростроительства и заместителем наркома по строительству. (Занимался строительством и механизацией портов, сооружением военно-морских баз, был руководителем работ Наркомстроя по Дальнему Востоку и северо-западному району СССР).
Во время Великой Отечественной войны А.Н. Комаровский был начальником Управления по строительству оборонительных сооружений Главного управления оборонительных работ НКВД СССР, командующим 5-й саперной армией. В 1942-1944 гг. он начальник Управления строительства Челябинского металлургического комбината.
С 1944 г. по 1956 г. руководил строительством различных объектов и крупных комплексов атомной отрасли.
В 1956-1963 гг. Александр Николаевич – заместитель министра среднего машиностроения СССР. С декабря 1963 г. по 1972 г. он заместитель министра обороны СССР по строительству и расквартированию войск. Член партии с 1939 г. На всех работах проявлял творческую активность, твердость характера и требовательность к людям.
Генерал армии (1972) Александр Николаевич Комаровский награжден семью орденами Ленина, двумя орденами Красного Знамени, орденом Отечественной войны I степени, двумя орденами Красной Звезды, орденом «Знак Почета» и многими медалями. В 1968 г. ему была присуждена Ленинская премия. Он доктор технический наук, профессор, автор мемуаров «Записки строителя» (1972). Опубликовал более 20 научных работ по различным разделам строительства.
А.Н. Комаровский избирался депутатом Верховного Совета СССР 8-го созыва, делегатом 23-го и 24-го съездов КПСС.
За исключительные заслуги перед государством при строительстве объектов атомной отрасли Александру Николаевичу Комаровскому Указом Президиума Верховного Совета СССР 29 октября 1949 г. было присвоено звание Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот».
ЭСАКИЯ Николай Михайлович (1906 – 1987 гг.)
 Эсакия Н.М. родился в г. Поти (Грузия). В 1931 г. окончил Тбилисский горно-металлургический институт и в течение трех лет работал в Грузии, сначала на баритовых месторождениях, затем в проектной организации «Закгоспроект».
Эсакия Н.М. родился в г. Поти (Грузия). В 1931 г. окончил Тбилисский горно-металлургический институт и в течение трех лет работал в Грузии, сначала на баритовых месторождениях, затем в проектной организации «Закгоспроект».
С 1933 г. Николай Михайлович Эсакия работал в Москве на строительстве метрополитена. Прошел путь от начальника участка до начальника строительства. В 1941-1942 гг. ему пришлось выполнять особо секретные работы в г. Куйбышеве, затем был начальником шахты в г. Узловая. В 1943-1945 гг. Н.М. Эсакия работал в Москве в должности заместителя начальника Главтоннельстроя. В этот период в тяжелейших условиях работы на Московском метрополитене Н.М. Эсакия добывался высоких результатов при выполнении плановых заданий.
С 1946г. по 1950 г. Николай Михайлович, выполняя задания правительства, работал в Германии, в обществе «Висмут», ответственным за горно-проходческие работы, объем которых был очень велик. За выдающиеся успехи в деле создания сырьевой базы для советской атомной отрасли Н.М. Эсакия в 1949 г. был удостоен звания Героя Социалистического Труда и ему была присуждена Сталинская премия I степени.
После завершения работы в АО «Висмут» Н.М. Эсакия продолжал трудиться на предприятиях Минсредмаша, правда уже в другом качестве. В 1951 г. он был назначен заместителем начальника Управления горно-металлургических предприятий МВД СССР. Находясь на этом высоком посту, он решал множество сложнейших практических задач. Из исторического очерка о создании горно-химического комбината в г. Железногорске (г. Красноярск-26) можно узнать следующее: «26 февраля 1950 г. было принято Постановление ЦК КПСС и СМ СССР (под грифом «совершенно секретно») о строительстве на территории Красноярского края горно-химического комбината. Он весь должен был разместиться в глубине Атамановского кряжа. Понятно поэтому, что особое внимание уделялось горным работам. Управлением, занимавшимся горно-проходческими работами в скальных массивах, руководил Н.М. Эсакия. Коллективом, костяк которого составляли московские метростроевцы, был выполнен огромный объем работ. Достаточно указать на такой факт: общая протяженность и объем спрятанных на глубине десятков и сотен метров дорог, цехов, реакторных залов и переходов в несколько раз превышают показатели для Московского метрополитена».
Награды генерал-директора путей и строительства IIIранга Н.М. Эсакия говорят о его большом вкладе в достижения нашего государства. Он был удостоен двух орденов Ленина, орденов «Знак Почета» и Отечественной войны I степени, многих медалей.
ПРОНЯГИН Петр Георгиевич (1924 г. –)
 Пронягин П.Г. родился в с. Львовка Больше-Болдинского района Горьковской области. Трудовую деятельность начал в октябре 1941 г. в агентстве Горьковского речного пароходства. С января 1942 г. работал токарем по металлу на Машиностроительном заводе № 92 в г. Горьком. В 1949 г. окончил Горьковский институт инженеров транспорта и получил диплом инженера-строителя. После окончания института был направлен в г. Свердловск-45 на комбинат № 814, где работал прорабом, старшим прорабом, начальником строительного участка, заместителем начальника технической инспекции строительства, главным диспетчером, начальником строительного района.
Пронягин П.Г. родился в с. Львовка Больше-Болдинского района Горьковской области. Трудовую деятельность начал в октябре 1941 г. в агентстве Горьковского речного пароходства. С января 1942 г. работал токарем по металлу на Машиностроительном заводе № 92 в г. Горьком. В 1949 г. окончил Горьковский институт инженеров транспорта и получил диплом инженера-строителя. После окончания института был направлен в г. Свердловск-45 на комбинат № 814, где работал прорабом, старшим прорабом, начальником строительного участка, заместителем начальника технической инспекции строительства, главным диспетчером, начальником строительного района.
В декабре 1956 г. Петр Георгиевич переходит на партийную работу: занимает должности секретаря парткома строительства п/я 20, второго секретаря ГК КПСС, первого секретаря ГК КПСС г. Свердловска-45. С ноября 1967 г. по 1990 г. П.Г. Пронягин – начальник управления «Химстрой» в г. Томске-7 (г. Северск).
Обладая хорошим организаторским талантом и большой работоспособностью, П.Г. Пронягин сумел создать крупнейшую генподрядную строительно-монтажную организацию в Западной Сибири – «Химстрой».
Это было индустриально развитое многоструктурное предприятие, имеющее мощную техническую базу, высококвалифицированные кадры и гибкую систему управления, способное удовлетворить запросы самого взыскательного заказчика на строительство крупных промышленных комплексов, жилья и объектов социального назначения как в нашей стране, так и за рубежом. Усилиями этого предприятия были выполнены сверхсложные работы по строительству и реконструкции объектов таких уникальных промышленных гигантов, как Сибирский химический комбинат и Томский нефтехимический комбинат.
В 1986 г. коллектив управления «Химстроя» был награжден орденом Ленина, в чем, несомненно, была большая заслуга его руководителя, Петра Георгиевича Пронягина.
За большой вклад в строительство крупнейших комбинатов и объектов соцкультбытового назначения в городах Сибири Указом Призидиума Верховного Совета СССР от 6 ноября 1984 г. Петру Георгиевичу Пронягину было присвоено звание Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот». Он удостоен и других правительственных наград: орденов Ленина (1962, 1984), Октябрьской Революции (1971), Трудового Красного Знамени (1954, 1976, 1982) и др. Имеет ряд благодарностей, Почетных грамот, памятных подарков и иных знаков отличия от министерств и различных общественных организаций.
ВОЛГИН Николай Николаевич (1907 – 1999 гг.)
 Волгин Н.Н. родился в с. Едимоново Тверской губернии в многодетной рабочей семье. В 1924 г. после окончания средней школы активно занимался комсомольской работой.
Волгин Н.Н. родился в с. Едимоново Тверской губернии в многодетной рабочей семье. В 1924 г. после окончания средней школы активно занимался комсомольской работой.
В 1929 г. был призван в ряды Красной Армии. После демобилизации поступил на строительный факультет Военно-инженерной академии, которую окончил в 1937 г., после чего был направлен на строительство Средне-уральского медеплавильного комбината в г. Ревду Свердловской области. Здесь он работал прорабом, позднее – начальником строительства этого комбината. В годы Великой Отечественной войны строил оборонительные сооружения, доты, мосты, переправы на Северо-Западном фронте. После окончания войны работал в Главпромстрое НКВД (МВД) СССР, сначала первым заместителем начальника строительства Руставинского металлургического завода, а затем был назначен начальником строительства завода № 12 в г. Электростали Московской области.
С 1949 г. по 1953 г. Николай Николаевич – первый заместитель начальника Главпромстроя НКВД СССР.
После смерти Сталина произошли структурные изменения в управлении промышленностью. Главпромстрой МВД разделился на две организации: Главпромстрой в составе МСМ и Главнефтеспецстрой в составе МВД.
С 1953 г. по 1955 г. Николай Николаевич работал в Главнефтеспецстрое СССР на строительстве Ангарского комбината искусственного жидкого топлива и города Ангарска и на строительстве Омского нефтеперерабатывающего завода. С 1955 г. по 1974 г. был начальником 1-го Главного управления, переименованного затем в 10-е Главное управление Минсредмаша СССР. За время работы в Минсредмаше под его руководством были созданы крупные уникальные объекты и современные города в Сибири и на Урале, инфраструктура для ракетных комплексов стратегического назначения, Ленинградская АЭС, было развернуто строительство Игналинской АЭС. Он непосредственно участвовал в строительстве объектов химии в городах Ангарске и Томске, в создании мощной стройиндустрии Минсредмаша СССР.
В этот период в связи с возросшим объемом работ главпромстрой был реорганизован. Были созданы три подрядных строительных Главных управления и Главное монтажное управление. Начальником 1-го Главного управления стал инженер-полковник Н.Н. Волгин. В состав этого управления входили самые крупные стройки Урала и Сибири, в том числе АУС-16 (г. Ангарск). Наиболее крупным объектом Николай Николаевич считал Ленинградскую АЭС. «Ленинградская АЭС – моя вторая и последняя любовь после Ангарска», — писал он в своих воспоминаниях. АЭС и город Сосновый Бор был построен на берегу Финского залива вблизи Ленинграда. Мощность первой очереди АЭС составила 2 миллиона киловатт (два атомных реактора по 1 миллиону киловатт с двумя турбинами по 500 тысяч киловатт). Строительство было выполнено с опережением плана на один год.
В 60-е годы на Минсредмаш правительством была возложена задача сооружения шахт для ракетных комплексов, оборудованных по последним достижениям науки и техники, с тремя источниками электропитания, с благоустроенными городками для обслуживающего персонала. Строительство этих уникальных комплексов министерством, в свою очередь, было возложено на мощный, хорошо работающий Главк, возглавляемый Н.Н. Волгиным.
За успешное завершение строительства больших и сложных объектов атомной промышленности Указом Президиума Верховного Совета СССР от 7 марта 1962 г. Николаю Николаевичу Волгину было присвоено звание Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот». Он награжден двумя орденами Ленина и многими другими орденами и медалями.
ГУТОВ Александр Иванович (1907 – 1982 гг.)
 Гутов А.И. родился в Петербурге в семье рабочего-модельщика Обуховского завода. После окончания школы II ступени в 1925 г. начал свой трудовой путь в качестве сотрудника бюро экономики труда Досчатинского завода (Горьковская область). В 1927 г. возвратился в Ленинград, где в 1928 г. поступил в Институт инженеров коммунального строительства. По окончании обучения в 1932 г. был направлен на работу в Ленгражданпроект, откуда был призван в ряды Красной Армии.
Гутов А.И. родился в Петербурге в семье рабочего-модельщика Обуховского завода. После окончания школы II ступени в 1925 г. начал свой трудовой путь в качестве сотрудника бюро экономики труда Досчатинского завода (Горьковская область). В 1927 г. возвратился в Ленинград, где в 1928 г. поступил в Институт инженеров коммунального строительства. По окончании обучения в 1932 г. был направлен на работу в Ленгражданпроект, откуда был призван в ряды Красной Армии.
После службы в январе 1934 г. А.И. Гутов поступил на работу в проектную организацию «Двигательстрой», которая позднее имела много наименований: Специальное проектное бюро, ГСПИ-11, предприятие п/я 45, п/я А-7631, ГИКП, ВНИПИЭТ, ФГУП ГИ ВНИПИЭТ.
Хорошая техническая подготовка, творческая инициатива, работоспособность Александра Ивановича не остались незамеченными, и вскоре он был переведен на должность старшего инженера, а в 1938 г. стал заместителем главного инженера института. В июле 1939 г. приказом Наркомата боеприпасов А.И. Гутов был назначен главным инженером института, а в октябре 1941 г. – директором и главным инженером.
В первые дни Великой Отечественной войны институту было поручено выполнение срочного и важного правительственного задания по проектированию и реконструкции промышленных и оборонных объектов. Большой объем проектных работ был осуществлен для скорейшего запуска оборонных предприятий, перебазированных на восток страны из мест, находившихся под угрозой оккупации. В 1941-1944 гг. коллектив, руководимый А.И. Гутовым, разработал проектную документацию, по которой было построено, реконструировано и модернизировано 252 промышленных предприятия, за что в 1945 г. Александр Иванович был награжден первым орденом Трудового Красного знамени.
В том же году ГСПИ-11 был передан в ведение Первого главного управления (впоследствии Минсредмаш). Началась дорога в неизведанное, здесь все было впервые, не было аналогов. Институту было поручено обеспечить проектно-сметной документацией строительство комбинатов по производству спецматериалов широкого профиля, заводов по переработке спецматериалов и созданию уникального оборудования, новых НИИ КБ. Для выполнения этого ответственного задания А.И. Гутов сумел создать многопрофильный коллектив, организовать его четкую работу и в не бывало короткие сроки решить поставленные задачи. По проектам института, в разработке которых А.И. Гутов принимал непосредственное участие, были построены и введены в эксплуатацию такие промышленные объекты и НИИ, как ПО «Маяк», Российский федеральный ядерный центр-ВНИИЭФ, Семипалатинский полигон, ряд предприятий 5-го и 6-го Главных управлений МСМ, Уральский электрохимический комбинат, Сибирский химический комбинат, Горно-химический комбинат, Электрохимический завод в г. Красноярске-45 и многие другие промышленные объекты.
Увеличение объемов работ по проектированию новых объектов и реконструкции действующих предприятий потребовало расширения института. Были созданы филиалы в Москве, Челябинске, Новосибирске, Томске и Красноярске. С 1964 г. наряду с проектированием промышленных объектов институт приступил к проектированию объектов большой атомной энергетики – Ленинградской, Курской, Игналинской АЭС. А.И. Гутов проявлял заботу о быте, в условиях труда сотрудников института. Во время его директорства были построены производственные здания, большой объем жилой площади, введены в эксплуатацию детские учреждения и т.д.
В 1962 г. А.И. Гутов был удостоен звания Героя Социалистического Труда. В представлении министра МСМ Е.П. Славского было сказано: «За исключительные заслуги перед государством при выполнении специальных заданий правительства по проектированию предприятий новой отрасли промышленности». В должности директора института А.И. Гутов проработал более 30 лет. В 1972 г. он ушел на заслуженный отдых.
За свою трудовую деятельность А.И. Гутов был награжден орденами Ленина, Трудового Красного Знамени, «Знак Почета», орденом Октябрьской Революции, многими медалями, в том числе медалью «За оборону Ленинграда».
ШТЕФАН Петр Тихонович (1911 г. – 1995 гг.)
 Штефан П.Т. родился в д. Китай-город Царичанского района Днепропетровской области в бедной крестьянской семье. Отец рано умер, и заботу о матери и младших детях взяли на себя старшие братья. Петр стремился к учебе. В 1927 г. он поступил в Днепропетровский инженерно-строительный институт, который окончил в 1933 г., и около полугода работал начальником участка на Уралвагонстрое (г. Нижний Тагил). Затем молодой инженер был направлен на курсы военных строителей и после их окончания получил должность начальника укрепрайона Забайкальской группы войск.
Штефан П.Т. родился в д. Китай-город Царичанского района Днепропетровской области в бедной крестьянской семье. Отец рано умер, и заботу о матери и младших детях взяли на себя старшие братья. Петр стремился к учебе. В 1927 г. он поступил в Днепропетровский инженерно-строительный институт, который окончил в 1933 г., и около полугода работал начальником участка на Уралвагонстрое (г. Нижний Тагил). Затем молодой инженер был направлен на курсы военных строителей и после их окончания получил должность начальника укрепрайона Забайкальской группы войск.
В 1935 г. Петр Тихонович работал уже в Средней Азии – был начальником строительства промсооружений Прибалхашстроя (бухта Бертыс Карагандинской области). Там он проработал два года, а затем был переведен в Москву начальником управления строительства Наркомата здравоохранения РСФСР. В марте 1941 г. П.Т. Штефан был назначен начальником строительства Тихвинского алюминиевого завода (стройка входила в систему НКВД).
С июля 1941 г. Петр Тихонович служил в действующей армии в военно-строительных частях. До 1942 г. был главным инженером Управления оборонительных работ Северо-Западного фронта, затем после краткосрочной учебы в Военно-инженерной академии летом 1942 г. стал начальником инженерных войск укрепрайонов Ростовского направления. Вскоре он был назначен заместителем начальника укрепрайонов Черноморской группы войск, а с 1943 г. до конца войны занимал должность дивизионного инженера Орджоникидзевской сводной 64-й дивизии.
Сразу после начала работ по атомной проекту П.Т. Штефан был привлечен к строительству важнейших объектов отечественной ядерной индустрии. Вначале был заместителем начальника Управления комбината № 6 НКВД (Ленинабалский горно-химический комбинат). Затем – стройки в Сибири и на Урале: с 1946 г. по 1954 г. П.Т. Штефан возглавлял строительные работы на объектах в Новосибирске и Нижней Туре, с 1954 г. по 1958 г. работал в Челябинске-40 (ПО «Маяк», г. Озерск).
В августе 1958 г. П.Т. Штефан назначается начальником Управления строительства «Сибхимстрой» в г. Красноярске-26. На этом посту он проработал 29 лет. Это был самый плодотворный и насыщенный созиданием период его жизни.
К середине 50-х годов строительная индустрия Министерства среднего машиностроения набрала уже большую мощь, и при возведении объектов министерства в разных концах страны осуществлялись масштабные планы жилищного строительства и создания развитой инфраструктуры – предприятий пищевой и обрабатывающей промышленности, оказывалась и шефская помощь соседним хозяйствам. Именно так вел дела П.Т. Штефан.
За годы его работы в г. Красноярске-26 были построены два атомных реактора Горно-химического комбината, радиохимический и химико-металлургический заводы, здания Научно-производственного объединения прикладной механики им. Решетнева, первая очередь изотопно-химического завода, химзавод № 12, завод «Сибэлектросталь». Красноярский машиностроительный завод усилиями коллектива «Сибхимстроя» был реконструирован, как и заводы автомобильной и холодильной техники.
Большое развитие получили сельскохозяйственные предприятия Красноярского края. При активнейшем участии П.Т. Штефана появились птицефабрики, животноводческие комплексы, комбикормовые хозяйства, теплично-парниковые комбинаты. Особый размах приобрело жилищное строительство: обрел свой нынешний облик г. Железногорск, появились новостройки – г. Сосновоборск и благоустроенный пос. Подгорный. А еще – 12 детских дошкольных учреждений, поликлиника, 12 общежитий, 15 столовых, профилакторий, турбаза, дом отдыха, пионерский загородный лагерь и загородная дача для отдыха детей.
Успехи строителей были по достоинству отмечены. Многие работники замечательного коллектива получили высокие награды, а их руководитель П.Т. Шефан в 1962 г. был удостоен звания Герой Социалистического Труда. Он кавалер четырех орденов Ленина, ордена Октябрьской Революции, двух орденов Трудового Красного Знамени и трех орденов Красной Звезды, ордена Отечественной войны I и II степени, многих боевых и трудовых медалей.
В 1987 г. генерал-майор П.Т. Штефан ушел на заслуженный отдых. Ему было присвоено звание почетного гражданина г. Железногорска, его имя носит одна из улиц этого города.
ПИЧУГИН Александр Васильевич (1927 – 2009 гг.)
 Пичугин А.В. родился в д. Колобородово, районный центр Петушки Владимирской области. Как и во всех малых деревнях России, школы в родной деревне не было, поэтому начальное образование получил в соседней деревне, а в старших классах стал учиться в другой школе. В 1942 г. А.В. Пичугин поступил в школу ФЗО на заводе «Карболит» в г. Орехово-Зуево, где получил профессию слесаря. С 1943 г. по август 1945 г. специализировался на ремонте автомашин и тракторов, в том числе и для фронта. В 1949 г. окончил с отличием строительный техникум в г. Дмитрове Московской области. Как отличник был принят без экзаменов в Московский инженерно-строительный институт.
Пичугин А.В. родился в д. Колобородово, районный центр Петушки Владимирской области. Как и во всех малых деревнях России, школы в родной деревне не было, поэтому начальное образование получил в соседней деревне, а в старших классах стал учиться в другой школе. В 1942 г. А.В. Пичугин поступил в школу ФЗО на заводе «Карболит» в г. Орехово-Зуево, где получил профессию слесаря. С 1943 г. по август 1945 г. специализировался на ремонте автомашин и тракторов, в том числе и для фронта. В 1949 г. окончил с отличием строительный техникум в г. Дмитрове Московской области. Как отличник был принят без экзаменов в Московский инженерно-строительный институт.
Окончив институт, в 1954 г. по распределению был направлен в г. Красноярск-26, где и началось его пятидесятилетняя трудовая биография, связанная с Министерством среднего машиностроения. Прошел путь от прораба до руководителя крупнейших строек. Принимал активное участие в строительстве атомных реакторов и других производств в сложных подземных условиях в качестве заместителя главного инженера строительства до 1960 г.
С этого периода А.В. Пичугин руководил различными стройками, в первую очередь работал там, где срывались сроки ввода важнейших для атомной отрасли и народного хозяйства промышленных комплексов, где, как говорят, работа была на прорыв. Это города Красноярск-45 (г. Зеленогорск, Электрохимический завод), Челябинск-65 (г. Озерск, химкомбинат «Маяк»), Златоуст-36 (г. Трехгорный, Приборостроительный завод), Пермь (Авиационный завод – комплекс испытательных стендов двигателей для авиации и ракетостроения) и др.
Особое внимание Александр Васильевич уделял строительству объектов на селе и строительству автодорог. Например, в районном центре Аргаяш Челябинской области был построен целый жилой квартал с Домом культуры, медицинским училищем и административным зданием.
За счет широкой специализации строительного производства, четкой централизации снабжения стройматериалами и изделиями строго по графикам с внедрением повсеместно высокопроизводительной механизации А.В. Пичугину удавалось сдавать объекты в эксплуатацию в более сжатые сроки. Необходимость наращивания объемов строительно-монтажных работ требовала широкого внедрения панельно-блочного строительства. И выход был найден. Большой набор элементов железобетонных изделий и конструкций позволял с высокой производительностью монтировать здания промышленного, социально-бытового и жилищного назначения. Своевременный ввод объектов в эксплуатацию достигался, как правило, путем повышения ответственности исполнителей за ускоренную сдачу сооружений под монтаж технологического оборудования – отставания не прощались!
На всех этапах трудовой деятельности А.В. Пичугин проявил себя высокоэрудированным и грамотным инженером, требовательным организатором, умеющим направлять усилия многочисленных коллективов на решение сложнейших задач. В работе сосредотачивал основное внимание на главных и перспективных вопросах. Эти его качества во многом определяли успешное выполнение задания правительства по строительству объектов атомной отрасли и других министерств, относящихся к военно-промышленному комплексу, и позволили ему в течение 37 лет (с 1958 г. по 1995 г) успешно руководить доверенными ему стройками. За высокое качество строительно-монтажных и отделочных работ десятками объектов соцкультбыта в перечисленных выше городах присуждались дипломы Госстроя РСФСР.
Большое внимание А.В. Пичугин уделял улучшению жилищно-бытовых условий сотрудников. Постоянно занимался работой по воспитанию молодежи, за что был награжден грамотой ЦК ВЛКСМ. Много внимания уделял общественной работе, многократно избирался членом областных и городских Советов депутатов трудящихся.
За успешное выполнение плановых заданий и широкое внедрение новой техники А.В. Пичугину Указом Президиума Верховного Совета СССР от 26 апреля 1971 г. было присвоено звание Героя Социалистического Труда. Он награжден двумя орденами Ленина, орденом Трудового Красного Знамени, многими медалями. В 1974 г. ему присуждена премия Совета Министров СССР за успешный ввод объекта по регенерации твэ-лов на комбинате «Маяк».
Везде, где приходилось работать Александру Васильевичу, о нем вспоминают как о добром и внимательном человеке, мудром руководителе и отличном организаторе.
УСАНОВ Александр Николаевич (1929 – 1992 гг.)
 Усанов А.Н. родился в г. Подольске Московской области в семье служащих. После окончания в 1952 г. Московского инженерно-строительного института им. В.В. Куйбышева Александр Николаевич был направлен в систему Минсредмаша, где проработал 40 лет. Трудовую деятельность начал в г. Арзамасе-16 (г. Саров).
Усанов А.Н. родился в г. Подольске Московской области в семье служащих. После окончания в 1952 г. Московского инженерно-строительного института им. В.В. Куйбышева Александр Николаевич был направлен в систему Минсредмаша, где проработал 40 лет. Трудовую деятельность начал в г. Арзамасе-16 (г. Саров).
С 1952 г. по март 1957 г. работал инженером, начальником строительного участка. Уже тогда молодой специалист А.Н. Усанов был награжден медалью «За трудовую доблесть». Александр Николаевич всегда отличался трудовой доблестью. Незаурядные организаторские качества, аналитический склад ума, порядочность, скромность, честность были присущи ему всю жизнь. За пятнадцать лет трудовой деятельности в Первом строительно-монтажном тресте Москвы он последовательно продвигался по служебной лестнице: был старшим прорабом, главным инженером и начальником строительно-монтажного управления, заместителем начальника и главным инженером треста.
В 1962 г. А.Н. Усанов награждается орденом «Почетный знак», а в 1971 г. – орденом Ленина. За сухими цифрами выполнения планов и объемов строительно-монтажных работ — тысячи человеческих судеб, сотни объектов в Москве и Московской области, развитие базы строительной индустрии, освоение и внедрение новых технологий строительства, охрана труда, техника безопасности и многое другое.
В 1973 г. А.Н. Усанов был назначен начальником 11-го Главного управления. Здесь перед ним встали другие задачи и другие масштабы деятельности: в подчинении тринадцать строительно-монтажных предприятий, в том числе и Первый строительно-монтажный трест, десятки тысяч работающих, тысячи объектов, разбросанных по всей территории Советского Союза. Это Ленинградская АЭС, большая химия и уран в Узбекистане, научные объекты в Москве, Подмосковье и средней полосе, специальная промышленность в Казахстане, сотни тысяч квадратных метров жилищного строительства в год, десятки объектов социально-культурного назначения, сельское хозяйство и много другое.
В 1979 г. А.Н. Усанов был назначен заместителем министра среднего машиностроения, и теперь в его подчинении находился весь строительно-монтажный комплекс министерства. Это шесть Главных управлений, проектные и научно-исследовательские институты, заводы строительной индустрии, металлоконструкций и оснастки, строительных материалов, десятки строительных и монтажных трестов. Работы велись как на всей территории СССР, так и за рубежом: Монголии и Ливии. Был введен четвертый блок Ленинградской АЭС, строились Игналинская АЭС, объекты химии промышленности в Томске, Ангарске, Зиме, Кирово-Чепецке, Навои, Ульяновский авиапромышленный комплекс, сооружались объекты «Олимпиады-80», сельского хозяйства и многое другое. Жилищное строительство активно развивалось и составило более двух миллионов квадратных метров в год. В 1981 г. Усанов был награжден орденом Октябрьской Революции.
С первых дней Чернобыльской аварии А.Н. Усанов принимал непосредственное участие в ликвидации ее последствий — был членом Правительственной комиссии, председателем центрального штаба министерства. Он находился на месте аварии более ста суток. За мужество, самоотверженные действия и трудовой героизм, проявленные при ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС и устранении ее последствий, ему было присвоено звание Героя Социалистического Труда.
А.Н. Усанов принимал активное участие в ликвидации последствий спитакского землетрясения в Армении. В разрушенном от землетрясения г. Кировакане министерством среднего машиностроения были построены более 70 тысяч квадратных метров жилья, объекты социальной инфраструктуры: школы, детские сады и др. На трудовом посту в должности заместителя министра среднего машиностроения Александр Николаевич Усанов находился до конца своей жизни.
ЛЫКОВ Геннадий Дмитриевич (1932 – 2001 гг.)
 Лыков Г.Д. родился в г. Абакане Красноярского края в семье служащих. С 1948 г. по 1952 г. был студентом строительного техникума. А квалификация инженера-строителя была присвоена ему в 1957 г. по окончании Новосибирского инженерно-строительного института.
Лыков Г.Д. родился в г. Абакане Красноярского края в семье служащих. С 1948 г. по 1952 г. был студентом строительного техникума. А квалификация инженера-строителя была присвоена ему в 1957 г. по окончании Новосибирского инженерно-строительного института.
Свою трудовую деятельность Г.Д. Лыков начал в тресте «Сибакадемстрой» в должности прораба в 1958 г. Профессиональные качества инженера и руководителя формировались непосредственно на строительной площадке, где он работал главным инженером участка, главным инженером и начальником СМУ. На любой работе он подтверждал свое звание инженера высокого класса, был способным и инициативным организатором, умеющим взаимодействовать с большим коллективом. В 1971 г. был назначен главным инженером, а в 1974 г. – начальником «Сибакадемстроя».
Под руководством Г.Д. Лыкова были построены Сибирское отделение Российской академии наук (СО РАН), научный городок Сибирского отделения Академии сельскохозяйственных наук, Сибирское отделение Академии медицинских наук, научные и индустриальные объекты атомной и микробиологической промышленности, два комплекса городских водозаборных сооружений, жилые микрорайоны, объекты соцкультбыта г. Новосибирска и области, курорт Белокуриха и многое другое.
За строительство научных центров в г. Новосибирске Г.Д. Лыкову был вручен орден Ленина (Указ Президиума Верховного Совета СССР от 26 апреля 1971 г.), а в 1985 г. за строительство научного центра и жилого района Сибирского отделения ВАСХНИЛ присуждена Государственная премия СССР.
Организаторские способности Г. Д. Лыкова, его умение сплотить коллектив на выполнение сложных задач были востребованы при ликвидации аварии Чернобыльской АЭС и устранении ее последствий. Коллектив строительного управления № 605, возглавляемый Лыковым, выполнил важнейший этап работы по возведению «саркофага», в котором был захоронен вышедший из строя четвертый энергоблок. В результате проведенной работы разрушенный реактор перестал быть источником радиоактивного загрязнения окружающей среды.
За мужество и самоотверженный труд, проявленные при ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС, Геннадий Дмитриевич Лыков был удостоен высокого звания Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот» (Указ Президиума Верховного Совета СССР от 24 декабря 1986 г.).
В 1989-1990 гг. под руководством Г.Д. Лыкова специалисты «Сибакадемстроя» участвовали в ликвидации последствий землетрясения в г. Кировакане Армянской СССР.
В годы перестройки «Сибакадемстрой» работал в условиях полного хозрасчета и самофинансирования и в 1991 г. стал акционерным обществом. На этом сложном этапе преобразования производства особенно пригодились опыт и знания Г.Д. Лыкова. Благодаря его усилиям «Сибакадемстрой» сохранил свой профиль и коллектив специалистов. За высокие достижения в производственной деятельности и большой вклад в укрепление дружбы и сотрудничества между народами Указом Президента РФ от 16 марта 1999 г. Геннадий Дмитриевич Лыков был награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени.
Геннадий Дмитриевич Лыков — заслуженный строитель РФ, почетный член Российской академии архитектуры и строительных наук, почетный профессор Новосибирского инженерно-строительного института.
В 1998 г. ему было присвоено звание «Почетный гражданин г. Новосибирска».
Любовь к профессии строителя он передал своим детям – дочери Ольге и сыну Дмитрию, который в настоящее время является руководителем «Сибакадемстроя».
ПОНОМАРЕВ Анатолий Дмитриевич (1940 г. —)
 Пономарев А.Д. родился в рабочей семье в Скопинском районе Рязанской области. В 1960 г. окончил Скопинское техническое училище и получил специальность газоэлектросварщика. Свою трудовую деятельность начал в тресте «Сибхиммонтаж» (г. Красноярск-26), участвовал в монтаже Горно-химического комбината. В 1964 г. был переведен на предприятие «Сибхимстрой», где возглавил бригаду сварщиков по монтажу крупнопанельных зданий и заводских цехов.
Пономарев А.Д. родился в рабочей семье в Скопинском районе Рязанской области. В 1960 г. окончил Скопинское техническое училище и получил специальность газоэлектросварщика. Свою трудовую деятельность начал в тресте «Сибхиммонтаж» (г. Красноярск-26), участвовал в монтаже Горно-химического комбината. В 1964 г. был переведен на предприятие «Сибхимстрой», где возглавил бригаду сварщиков по монтажу крупнопанельных зданий и заводских цехов.
В декабре 1976 г. А.Д. Пономарев направляется на работу в Литву, в Западное управление строительства. Здесь в составе коллектива Строительно-монтажного управления № 1 участвовал в создании базы строительной индустрии.
В июле 1978 г. комплексная бригада, которую возглавлял А. Д. Пономарев, приступила к сооружению фундаментальной плиты Игналинской атомной электростанции. Затем бригаде было поручено возведение стен шахты аппарата. Арматурные блоки, которые приходилось монтировать на 1-м и 2-м энергоблоках, весили до 40 тонн. Было много и других сложностей. Но работа монтажников под руководством А.Д. Пономарева всегда оценивалась на «отлично».
За успехи, достигнутые при сооружении и вводе в эксплуатацию 1-го энергоблока Ингалинской АЭС, в 1985 г. А.Д. Пономареву было присвоено звание Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот». В марте 1974 г. Анатолий Дмитриевич был награжден орденом «Знак Почета», а в марте 1981 г. – орденом Трудового Красного Знамени и многими медалями.
СЕМЫКИН Иван Иванович (1931 – 1981 гг.)
 Семыкин И.И. родился в Ставропольском крае в семье колхозника. В военные годы в месте с родными ему пришлось пережить гитлеровскую оккупацию. С 1950 г. после окончания строительного техникума работал в системе Минсредмаша на главнейших объектах Сибирского химического комбината в г. Северске (г. Томск-7) и на других крупных оборонных объектах в Сибири. По мере повышения своего профессионального мастерства занимал должности мастера, прораба, главного инженера и начальника участка, руководителя строительно-монтажного управления, заместителя начальника строительства «Химстрой» (г. Томск-7).
Семыкин И.И. родился в Ставропольском крае в семье колхозника. В военные годы в месте с родными ему пришлось пережить гитлеровскую оккупацию. С 1950 г. после окончания строительного техникума работал в системе Минсредмаша на главнейших объектах Сибирского химического комбината в г. Северске (г. Томск-7) и на других крупных оборонных объектах в Сибири. По мере повышения своего профессионального мастерства занимал должности мастера, прораба, главного инженера и начальника участка, руководителя строительно-монтажного управления, заместителя начальника строительства «Химстрой» (г. Томск-7).
С 1967 г. И.И. Семыкин работал на строительстве Ленинградской атомной электростанции, сначала в должности начальника Строительно-монтажного управления № 1, а потом в должности заместителя и начальника Северного управления строительства. Высокое чувство ответственности за выполнение поставленных перед коллективами задач, включая и привлечение субподрядных организаций, позволили ему в 1973 г. ввести в эксплуатацию с хорошим качеством строительно-монтажных работ первый блок ЛАЭС мощностью 1 млн. киловатт. В последующие годы Северное управление также успешно справлялось с напряженными графиками строительства других блоков.
За успехи, достигнутые при возведении первой очереди ЛАЭС, Иван Иванович Семыкин в 1975 г. был удостоен звания Героя Социалистического Труда. Его достижения также отмечены двумя орденами Ленина, двумя орденами Трудового Красного Знамени и премией Совета Министров СССР.
26 апреля 2011 года исполнилось 25 лет со дня крупнейшей в истории атомной энергетики техногенной катастрофы Чернобыльской АЭС.
Катастрофа произошла на 4-м энергоблоке Чернобыльской АЭС с полным разрушением реакторной установки и части строительных конструкций энергоблока.
Столб горящих материалов и газов поднялся на высоту более километра. Радиоактивные газы и летучие радионуклиды были унесены в атмосферу. Ядерное топливо при взрыве активной зоны было рассеяно по помещениям 4-го энергоблока, частично выброшено на кровлю машинного зала и в окружающую среду.
Вся территория ЧАЭС была загрязнена разбросанными фрагментами активной зоны, обломками твэлов, кусками графитовой кладки, радиоактивными элементами. Аварию дополнил возникший пожар на крыше машинного зала, который был потушен пожарными.
Они ценой своей жизни спасли станцию, а правильно сказать - человечество. Потому что, если бы огонь добрался до других реакторов, последствия были бы еще более катастрофическими.
Мощность дозы вокруг разрушенного энергоблока достигала 2000 р/ч, и разрушенный блок представлял собой недоступный источник радиоактивного излучения и аэрозольного загрязнения, так как «дышал» тысячами рентген.

С этого дня начался новый отсчет времени в нашей стране - время до аварии на Чернобыльской АЭС и время после аварии. Всю страну, весь Советский Союз, затронула эта глобальная катастрофа, и все старались помочь справиться с этой бедой. К ликвидации последствий аварии был привлечен весь научный и технический потенциал страны.
Для изучения причин аварии и осуществления необходимых мероприятий, связанных с ликвидацией её последствий, в тот же день, 26 апреля, была организована Правительственная комиссия во главе с председателем Совмина СССР Н. И. Рыжковым.
Побывав на ЧАЭС, члены Правительственной комиссии убедились, что 4-й блок не подлежит восстановлению. Чтобы предотвратить выход радионуклидов в окружающую среду, уменьшить воздействие проникающей радиации, было принято решение о долговременной консервации разрушенного блока. К ликвидации последствий аварии был привлечен весь научный и технический потенциал страны.
Предстояло решить огромное число вопросов: эвакуация населения, размещение участников ликвидации аварии в безопасных зонах, пылеподавление на всей зараженной территории, дезактивация участков и помещений для размещения строительных организаций, и подход к 4-му энергоблоку, который продолжал извергать огромное количество радиоактивных продуктов и главное - закрыть 4-й энергоблок. Кроме того, были остановлены действующие 1-й, 2-й и 3-й энергоблоки. Это же огромные потери для всей энергетической системы страны.

Конечно Минэнерго СССР, которое построило и эксплуатировало эту станцию, не могло одно справиться со всеми этими задачами, и к середине мая 1986 года не было сделано практически никаких действий в плане консервации 4-го блока. Поэтому 15 мая Правительство СССР поручило Минсредмашу СССР выполнение работ, связанных с консервацией 4-го энергоблока ЧАЭС и относящихся к нему сооружений, а также захоронение радиоактивных отходов.
Постановлением ЦК КПСС и СМ СССР от 5 июня 1986 года Министерство среднего машиностроения СССР было назначено генподрядчиком по осуществлению работ, связанных с захоронением 4-го энергоблока ЧАЭС. Генпроектировщиком был назначен Всесоюзный научно-исследовательский и проектный институт энергетической технологии (ВНИПИЭТ), входящий в состав Минсредмаша СССР. Научное руководство по осуществлению консервации 4-го энергоблока ЧАЭС было возложено на Институт атомной энергии им. И.В. Курчатова.
В первые дни после аварии сотни сотрудников Минсредмаша СССР обратились с просьбой направить их в Чернобыль. Среди подавших заявления были люди разных возрастов и профессий, но всех их объединяло одно - высокий патриотический почин и желание отдать свой опыт, знания выполнению задач по ликвидации последствий аварии. Все восхищались мужеством и героизмом пожарных, которые показали пример верности своему долгу.
Прекрасно сознавая всю степень опасности и трудности работы, все, подавшие свои заявления, считали своим прямым долгом приложить профессиональные навыки и мастерство, отдать все силы, не жалея здоровья, для скорейшего выполнения порученного дела. Никто не считал этот труд героическим - обычная работа только в необычных условиях.
Кто же такие эти люди, которые считали своим правом и даже необходимостью быть в первых рядах при ликвидации последствий аварии на ЧАЭС, даже еще не представляя ее масштабов? Почему посчитали своим долгом оставить все свои важные государственные дела, которыми занималось это ведущее министерство в нашей стране, и отправиться в Чернобыль?
Да очень просто! Потому что в Министерстве среднего машиностроения СССР, в настоящее время Госкорпорация «Росатом», работали люди высокой профессиональной подготовленности, построившие первые атомные станции сначала в Обнинске в 1954 году, потом в Сосновом Бору в 1974 году.
Атомные ледоколы, атомные подводные лодки - все это дело рук средмашевцев. Только нашими силами можно было справиться с такой сложной задачей, как проектирование и возведение «Укрытия» в высоких радиационных полях. Это могли сделать только люди Е.П.Славского - трижды Героя Социалистического Труда, лауреата Ленинской и трех Государственных премий, кавалера 10 орденов Ленина, почетного жителя городов Красноярска-26 (ныне Железногорск) и Шевченко (ныне Актау). Поэтому и было принято решение проектирование «Укрытия» и захоронение 4-го энергоблока передать Минсредмашу СССР.
В Чернобыль немедленно вылетел министр Средмаша Е.П. Славский и другие руководители министерства. Ефим Павлович приехав на ЧАЭС, прошел весь машзал до «развала» и оценив обстановку сказал коротко: «Будем работать».

В кратчайшие сроки в министерстве были разработаны и подписаны документы по созданию Штаба, координирующего все работы на ЧАЭС, во главе с заместителем министра А. Н. Усановым. Его заместителем назначен И.А. Беляев, а в состав Штаба вошли: Ю. П. Аверьянов, Л. В. Забияка, В. И. Рудаков, Л. И. Саруль, А. П. Игнашин, П. С. Сидоров, А. П. Гаврилов, Г. И. Дряпак - все руководители и заместители руководителей Главных управлений министерства. В течение одних суток к 17 мая была разработана структура вновь созданного Управления строительства (УС-605) и подобран руководящий состав стройки.
Разработаны и выпущены регламентирующие материалы о подборе и направлении специалистов и рабочих. Через неделю после Постановления Правительства, руководящий состав УС-605 выехал в Чернобыль и приступил к выполнению задания.
Была разработана и утверждена министром Е.П. Славским структура УС-605, представлены для назначения руководящие работники создаваемого Управления строительства. 21 мая первая смена вылетела в Чернобыль. Было решено работы проводить вахтовым способом. На каждую должность был установлен резерв не менее трех человек, которые могли заменить руководителя, если возникнет такая необходимость. Комплектование УС-605 было произведено за счет лучших людей, имеющих большой опыт работы на стройках министерства. Чтобы понять уровень руководства УС-605, приведу состав руководителей управления трех вахтовых смен 1986 года:
Первым начальником строительства был назначен генерал-майор Е. В. Рыгалов - начальник УС-604 в Красноярске. Евгений Васильевич опытный руководитель, имел большой опыт работы на строительстве объектов, главным инженером - В. Т. Шеянов - главный инженер Северного управления строительства с Ленинградской атомной станции. Начальником УС-605 второй вахтовой смены с 16 июля по 15 сентября 1986 года был назначен Г. Д. Лыков - начальник УС «Сибакадемстрой», главным инженером - Ю. А. Ус - начальник Обнинского УС.
Начальником третьей вахтовой смены с 16 сентября по 2 декабря 1986 года - И. А. Дудоров - гл. инженер Димитровградского УС, главным инженером - Л. Л. Бочаров - заместитель главного инженера 9-го ГУ Минсредмаша, первым заместителем начальника УС-605 - О. М. Сафьянов - зам. начальника Северного УС.
Это был особо важный объект! Только лучшие из лучших, самые высококвалифицированные специалисты Минсредмаша СССР направлялись на работу в Чернобыль. Только так, подхода другого не было и не могло быть. Дело должно быть выполнено в кратчайший срок и с наименьшими потерями.
При комплектовании кадрами УС-605 не было ни одного случая отказа или задержки с прибытием на место как руководящих работников, так и рабочих. А на месте выполнения работ в Чернобыле не было отказов от выполнения заданий, что свидетельствует о высочайшей дисциплине и ответственности наших специалистов.
Задача быстрейшей ликвидации последствий аварии на ЧАЭС по своим масштабам, сложности, ответственности за судьбы огромного количества людей, экономике и даже влиянию на международный политический климат не имела аналогов ни в отечественной, ни в мировой инженерной практике.
При разработке проекта по захоронению реактора возникали сложнейшие проблемы, к числу которых следует отнести такие: оценка степени повреждения строительных конструкций 4-го энергоблока с целью дальнейшего их использования при возведении «Укрытия», необходимо было разработать предельно укрупненные конструкции, допускающие дистанционный монтаж, не требующий присутствия людей в зоне монтажа, выбор методов работы, позволяющих предельно сократить сроки строительства, обеспечить полную механизацию выполняемых работ с минимальным количеством присутствующих людей в зоне строительства.
Особая сложность проектирования и строительства «Укрытия» заключалась в том, что каких либо аналогов и технических решений по захоронению таких объектов в отечественной и мировой практике не было.
Перед учеными, проектировщиками, конструкторами остро встал вопрос, каким образом одновременно с оперативными аварийными мерами, принимаемыми по локализации источника выброса из аварийного блока, разработать методы постоянной защиты окружающей среды от ионизирующего излучения.
Ясно было одно, что все «развалы» и «завалы» должны быть укрыты или бетоном, или грунтом, или выполнены какие-либо экраны из тяжелых материалов, исключающих влияние излучения из аварийного блока. Серьезным оставался вопрос, как при «закрытом» аварийном блоке создать системы контроля поведения активной массы реактора и при необходимости воздействовать на его возможное развитие.
Проектировщики ВНИПИЭТа под руководством главного инженера института и автора проекта В.А. Курносова проработали 18 вариантов проекта. В частности, устройство единого засыпного холма из щебня, бетона, металлических полых шаров, устройство арочного покрытия пролетом 230 м, устройство накатных сводов и куполов над реакторным залом пролетом до 100 м, устройство консольной надвижной кровли над машинным залом пролетом до 60 м и т.п. Все перечисленные варианты в соответствии с технико-экономическими расчетами требовали значительного расхода строительных материалов, а главное - трудозатрат и длительного до 1,5-2 лет времени на их возведение, что не отвечало основным требованиям скорейшей ликвидации последствий аварии.
Окончательный вариант, реализованный в дальнейшем, позволил предельно сократить сроки строительства и обеспечить необходимую надежность и безопасность вновь возведенного объекта «Укрытие». Основная идея этого варианта заключалась в том, что для возведения «Укрытия» в качестве опор под вновь возводимые несущие конструкции были использованы сохранившиеся и полуразрушенные конструкции энергоблока.

В чем же заключались основные решения, предложенные проектным институтом для решения этой сверхсложной проблемы? В целях снижения радиации и создания благоприятных условий для работы строителям и монтажникам проектом предусмотрен принцип поэтапного наступления на аварийный энергоблок от его периферии к центру. Была разработана такая последовательность выполнения работ, которая позволила проводить последующие операции под радиационной защитой ранее возведенных конструкций.
Последовательно бетонировали территорию промплощадки слоем до 500 мм, возводили защитные стены высотой 6-8 метров по всему наружному периметру аварийного энергоблока. Защитные стены выполняли следующим образом. В стороне на специальные железнодорожные платформы монтировали металлические блоки с опалубкой, образующие несущий каркас защитных стен, и защищенной техникой - бульдозерами платформы толкали в зону установки, а затем дистанционно с помощью заранее уложенных на платформу бетоноводов их бетонировали.
Таким образом, решалась проблема подхода к зданию людей и механизмов. И хотя общая радиационная обстановка за защитными стенами была сложной, отдельные операции вблизи завалов с учетом дозовых нагрузок выполняли люди и защищенная техника.
В результате проектных и технических проработок была принята объемно-пространственная структура объекта «Укрытия», образованная рядом каскадно-поднимающихся блоков, размеры и очертания которых определялись конструктивными особенностями элементов ограждающих конструкций, предназначенных для герметизации 4-го энергоблока. Между 3-м и 4-м энергоблоками выполнена бетонная разделительная стена высотой до уровня кровли. Между 2-м и 3-м блоком сооружена металлическая разделительная стена, позволившая подготовить и вновь запустить в работу уже осенью 1986 года первые два блока.
Северная защитная стена со стороны основного «завала» выполнена из бетона в виде 4-х уступов высотой до 12 метров. Наружная опалубка уступов выполнена из металлических щитов длиной до 54 метров и высотой 12 метров и массой каждой монтажной единицы более 100 тонн.
Западная сторона энергоблока закрыта защитной бетонной стеной толщиной в один метр, высотой 45 метров. Металлический несущий каркас стены монтировали контрфорсами-блоками размером 6×45 метров, а массой по 92 тонны.

Но это были еще не самые большие и тяжелые конструкции, которые устанавливали при монтаже «Укрытия» в условиях высоких радиационных полей. Для создания покрытия над центральным залом и с южной стороны энергоблока (деаэраторной этажеркой) необходимо было найти опоры для новых несущих конструкций. Причем расстояние между опорами не должно превышать предельных размеров, обеспечивающих монтаж строительным краном. После тщательных исследований сохранившихся конструкций были найдены оптимальные решения. Но для этого приходилось проектировщикам, монтажникам и инженерам, в числе которых были майор Л. И. Горб, главный инженер третьей вахтовой смены Л. Л. Бочаров и многим другим неоднократно подниматься в защищенной кабине («Батискафе»), которую цепляли к стреле крана, что на стройках категорически запрещалось, и осматривать место опоры, несмотря на высокие радиационные поля в месте монтажа.
Опорами были приняты: по западной стороне аварийного блока - сохранившаяся монолитная стена. Для надежности опоры стена была усилена металлическим корсетом с последующим заполнением бетоном внутреннего пространства; по северной стороне энергоблока - вновь возводимая каскадная стена; по восточной стороне - две сохранившиеся монолитные выхлопные шахты; со стороны деаэраторной этажерки - вновь проектируемая металлическая балка «Мамонт» длиной 70 метров, высотой 6 метров, шириной 2,4 м, массой вместе с траверсой 180 тонн.
Для ее установки с огромным трудом были изготовлены две опоры, в основании которых был завал из обломков строительных конструкций высотой до 6 метров. Основания под опоры были надежно закреплены бетоном и другими материалами, а для обеспечения надежности опор они были испытаны в соответствии со специально разработанной программой.
Монтажные работы велись с трех сторон немецкими кранами фирмы «Демаг» грузоподъемностью на основной стреле 600 тонн и вспомогательной при вылете 78 метров - 112 тонн. Как отмечал автор проекта В. А. Курносов: «Если бы не было этих кранов, я не знаю, как бы мы справились с этой задачей, даже думать не хочу ».
Эти краны поступили на ЧАЭС в разобранном виде и в отсутствие немецких специалистов наши монтажники из треста «Спецмонтажмеханизация» под руководством начальника треста В.А. Ковальчука, и специалистов Л.М. Королева, Л.Л. Кривошеина, О.П. Ионова, П.В. Калинина, В.Д. Мучника, А.Л. Лаврецкого и многих других смогли в сроки значительно более короткие, собрать эти краны и запустить их в работу, несмотря на то, что ранее эти краны у них не находились в эксплуатации. Разобрались не только в механике, но и в электронике.
И конечно самое сложное при монтаже «Укрытия» - дистанционный монтаж металлоконструкций, который проводился под руководством ведущих специалистов Минсредмаша в исключительно сложной радиационной обстановке. Это стало возможным благодаря внедрению специалистами НИКИМТа под руководством В.П. Иванова телевизионного и радиоуправления ходом производства строительно-монтажных работ.
Для перекрытия центрального зала была разработана и изготовлена металлическая конструкция, которая состояла из двух балок. Каждая балка длиной 40 метров, высотой 3,4 метра и массой 65 тонн, связанных в единый пространственный блок общим весом 165 тонн. Монтаж этой балки над центральным залом полон драматизма, так как в один из самых ответственных моментов, когда уже оставалось не более двух метров до окончательной установки этой грандиозной по своим габаритам конструкции под названием «Самолет» произошел разрыв троса лебедки крана, и вся эта конструкция могла рухнуть в «развал» реактора, что могло привести совершенно к непредсказуемым последствиям.
Хладнокровие и профессионализм руководителей монтажа и высококлассных специалистов А.Н. Усанова, В.И. Рудакова, В.С. Андрианова, Н.К. Страшевского, Л.Л. Кривошеина, О.П. Ионова, и многих других, участвующих в монтаже, предотвратили трагедию. На третьи сутки 23 сентября 1986 года балка «Самолет» была установлена в монтажное положение. Это был один из самых ответственных и драматических моментов при возведении «Укрытия».
Трое суток участники монтажа этой балки не уходили с площадки. Вот что сказал в одном интервью в 1996 году генеральный директор ВНИПИЭТа, автор проекта «Укрытие» В.А. Курносов: «Когда кран „Демаг“ поднял блок балок Б-2 („Самолет“) и установил его сверху, я стоял и плакал. Мы затыкали, наконец, этот проклятый радиоактивный вулкан! »
Уже к 1 октября 1986 года на эту балку были установлены 27 металлических труб перекрытия диаметром 1220 мм и длиной 36 метров. Теперь можно было доложить МАГАТЭ и всему международному сообществу, что взорвавшийся реактор 4-го блока изолирован от окружающей среды и всякие фотографии с космических спутников только подтвердят это.

Для выполнения работ требовались не только высококвалифицированные специалисты-монтажники, строители, но огромное число водителей, операторов бетононасосов, механиков и т.д. Министерством обороны СССР были призваны на шестимесячные курсы резервисты, переданные в военностроительные части Минсредмаша. На территории Иванкова и Чернобыля были развернуты два военно-строительных полка, а в Тетереве - военно-строительный отряд, которые обеспечивали рабочей силой строительную площадку.
Во вторую и третью смены потребовалось большое количество водителей. Особенно для большегрузных машин, машин по доставке бетона - «миксеров». Особая забота была по обеспечению строительства операторами-машинистами бетононасосов.
Учитывая сложившуюся ситуацию в Чернобыле, создали ускоренные учебные курсы подготовки водителей на бетоносмесительные машины и машинистов-операторов бетононасосов. Надо сказать, что водители, операторы бетононасосов, механизаторы составляли во второй и третьей сменах одну треть численности работающих. Они были настоящими героями! В тяжелейших радиационно-опасных условиях они укладывали до 6000 кубометров бетона в сутки. Именно герои, и им памятник надо поставить рядом с «Укрытием».
Как правило, специалисты из всех организаций Минсредмаша по заданию штаба министерства вылетали немедленно, без каких-либо проволочек. Все дела откладывались, ради решения чернобыльских проблем. Графики замещения специалистов в Чернобыле утверждались или Е.П.Славским или А.Н. Усановым и выполнялись беспрекословно.
В первую смену, которая длилась с 20 мая по 15 июля 1986 года, количество рабочих и ИТР, занятых на работе в Чернобыле от Минсредмаша, составило 5076 человек при машинном парке 988 единиц. Во вторую смену, с 16 июля по 15 сентября, - 9347 человек, при машинном парке 1400 единиц.
В третью заключительную смену с 16 сентября по 2 декабря, работало порядка 11 тысяч человек при количестве машин и механизмов 1400 единиц. Всего от Минсредмаша в работах по ликвидации последствий катастрофы на ЧАЭС в период с 1986 по 1989 годы участвовало более пятидесяти тысяч человек, в том числе более пятнадцати тысяч военных строителей. И все они были специалисты самого высокого уровня.
Оперативность в организации работ в Чернобыле Минсредмашем, как и все последующие действия, поражают воображение любого человека, и еще долго будут удивлять. Как можно было в условиях высокой радиационной обстановки, где и подступиться-то к пораженному взрывом реактору из-за тысяч рентген было невозможно, менее чем за полгода совершить невероятное - закрыть 4-й энергоблок Чернобыльской АЭС. И закрыть так, что уже 30 ноября 1986 года, как когда-то советские воины в Берлине оставляли свои подписи на стенах поверженного Рейхстага, так и в этот день строители, монтажники, да и все участники этой грандиозной по своей значимости работы оставляли свои автографы на стенах сооруженного «Укрытия», надежно закрывшего опасный реактор.
Строительство объекта «Укрытие», несмотря на сложную радиационную обстановку, позволило решить все главные задачи по надежной консервации разрушенного блока в предельно короткий срок - 5,5 месяцев. Это явилось уникальной инженерной работой, практически был первый опыт ликвидации последствий крупной аварии на АЭС, не имеющей аналогов в мировой практике, потребовавший смелых неординарных научных и проектных решений, инженерного риска, слаженной работы всех организаций, качественного и незамедлительного исполнения. 30 ноября 1986 года объект «Укрытие» был принят Государственной комиссией и передан ЧАЭС для долговременного обслуживания.
Взрыв в Чернобыле - это трагедия, от которой содрогнулся мир, которую забыть невозможно. Да и забывать нельзя. Она отняла жизнь и здоровье у тысяч людей, искалечила их судьбы, нанесла непоправимый ущерб природе. И в то же время она высветила истинную сущность людей. Их способность сплотиться перед лицом беды, их жертвенность и готовность к подвигу
При сооружении «Укрытия» в самом центре главных событий всегда находились заместитель министра А.Н. Усанов, главный инженер ВНИПИЭТа В.А. Курносов, начальники главков В.И. Рудаков, К.Н. Москвин, Ю.М.Савинов, руководители строительных трестов и многие ведущие специалисты Минсредмаша. Они взяли на себя самые ответственные решения с начала и до окончания работ. Провели в Чернобыле все три смены, выезжая только на короткий срок в Москву. Когда шла речь об их замене, особенно о Рудакове, то Владимир Иванович сказал: «Здесь я знаю обстановку на каждый день и час, могу вовремя принять нужное решение, а что мне делать в Москве? Умру, но начатое дело не брошу».
Рядом с ним в Чернобыле были только те, кого он знал по работе, кому доверял и верил. В Москву он приезжал только на три-четыре дня. Давал указания сотрудникам своего главка и снова возвращался назад. Он отдал всего себя Чернобылю, фактически сжег себя. Его не стало 22 января 1988 года в возрасте 58 лет. Также вскоре не стало А.Н. Усанова и В.А. Курносова.
Беспредельно преданными делу были начальники главков Ю.М. Савинов и К.Н. Москвин, директор НИКИМТа Ю.Ф. Юрченко, зам. главного инженера «Оргстройпроекта» В.П. Барабаш, главный инженер треста «Энергоспецмонтаж» В.C. Андрианов, начальник треста «Спецмонтажмеханизация» К.Н. Кондырев, главный инженер 11 ГУ Л.В. Забияка, начальник УС-604 из Красноярска Е.В. Рыгалов, начальник УС «Сибакадемстрой» Г.Д. Лыков, зам. начальника строительства Игналинской АЭС Г.М. Середа, начальник СМУ управления «Химстрой» К.С. Тадыков, начальники трестов «Спецхиммонтаж» Э.В. Жунда и «Промэлектромонтаж» С.А. Дмитроченков.
Смелые, хладнокровные, мужественные они умели нести ответственность за порученное дело и идти на оправданный риск. Ценой собственной жизни они сделали все, чтобы закрыть разбушевавшийся реактор. Все работы в Чернобыле проводились при непосредственном руководстве Правительственной комиссии по ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС. В работе комиссии от Минсредмаша участвовали первый зам. министра А.Г. Мешков, зам. министра Л.Д. Рябев, начальник хозяйственного управления министерства И.А. Беляев, генеральный директор НИКИМТа Ю.Ф. Юрченко.

Минсредмаш под непосредственным руководством своего легендарного министра Е.П.Славского выполнил задачу, поставленную перед ним Правительством, потому что были командированы наши лучшие специалисты. Благодаря слаженной работе и благодаря централизованному управлению с остальными министерствами Минсредмаш смог решить эту задачу. 30 ноября чернобыльцы Минсредмаша встречаются ежегодно, вспоминая все, что связано со строительством этого навечно укрывшего 4-й энергоблок «Укрытия». Вспоминают своих друзей, вспоминают всех, кто отдал свое здоровье, свою жизнь ради выполнения этой задачи.
Многие участники ликвидации последствий катастрофы на ЧАЭС Минсредмаша были награждены орденами и медалями. Заместитель министра А.Н. Усанов, начальник УС «Сибакадемстрой» Г.Д. Лыков и машинист-оператор бетононасосов механик с Игналинской АЭС В.И. Завидий получили высшую награду страны - звание Героя Социалистического Труда.

Учитывая пережитое, хочется надеяться, что подобное больше никогда не повторится. Напряжение было беспредельным. Но мы справились. А по-другому в нашем министерстве и не могло быть. Мы были все вместе - от министра до рабочего. И нас объединяла одна цель - победить в этой схватке с неизвестностью, которую мы все вместе преодолели. Победили, потому что здесь работали лучшие кадры страны.
Громкие слова в адрес ликвидаторов последствий аварии на Чернобыльской АЭС - это не дань моде, а знак глубокого уважения к людям, которые, работая в экстремальных условиях по сооружению «Укрытия», действительно стали Героями. Не сомневаюсь, что совершенный ими подвиг в сердцах потомков будет бессмертен.
Сейчас, вспоминая те времена, можно с уверенностью сказать, что в тяжелейших условиях работы на ЧАЭС ликвидаторы прошли серьезную школу испытаний на прочность и мужество, и они ее выдержали. Таким были все участники ликвидации катастрофы на ЧАЭС, и очень жаль, что таких людей становится с каждым днем все меньше и меньше.

К 25-летию катастрофы на ЧАЭС мною подготовлена книга «Схватка с неизвестностью», которая написана с использованием воспоминаний чернобыльцев. Эти воспоминания подобраны таким образом, чтобы у читателя сложилась ясная картина, как проходило сооружение уникального объекта «Укрытие» в условиях огромных радиационных полей, где совершенно невозможно было находиться человеку и как с этим справились наши специалисты.
Воспоминания написаны людьми, которые были не просто свидетелями, очевидцами тяжкого испытания, они были непосредственными участниками ликвидации катастрофы, первопроходцами в опасной зоне. Эти воспоминания дают возможность более полно представить трагедию тех дней, мужество и героизм наших людей по долгу, по зову совести причастных к ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС.
Всемирно известный писатель Ю.В.Бондарев - участник Сталинградской битвы, Герой Социалистического Труда, лауреат многочисленных премий, прочитав книгу, написал отзыв, в котором, в том числе сказано:
«В истории человечества это новый род войны с неизвестным, неведомым врагом, но не менее коварным и вероломным. Как старый солдат- сталинградец в год юбилея низко склоняю голову перед всеми бойцами-чернобыльцами, перед живыми и мертвыми, всеми, кто бесстрашно смотрел в глаза невидимому врагу и отдал единственную жизнь, чтобы остановить его, не пустить „гулять“ по народным нивам, не ведающим о беде»
Елена Козлова
ветеран атомной отрасли,
участник ликвидации последствий аварии
на ЧАЭС в 1986-1987 годах,
кандидат технических наук,
член Союза писателей России.
Максим Калашников.
Сила сильных. Город в скальных толщах. "Архипелаг Китеж". Следы великой цивилизации - цитадель МинСредМаша.
Когда я складываю воедино разрозненные куски открывающейся картины, то поневоле всплывают в памяти эпизоды читанного в детстве фантастического романа. И кажется, будто ходишь среди руин взорванного на старте могучего звездолета. И пусть его остатки тронуты ржавчиной, пусть сквозь них уже пробиваются молодые деревца - все равно ты угадываешь его стремительные и величественные контуры, чувствуешь мощную пульсацию его двигателей, биение космических энергий его сердца-реактора. И уже твое сердце сжимается от совершенного над этим чудом варварства. Ты с ненавистью глядишь на мерзких дикарей, устроивших торжище среди мертвых дюз и вздымающихся к небу антенн, сделавших отхожее место в разбитой рубке управления, на распотрошенных останках электронного мозга.
Моя великая страна сейчас и есть такой взорванный на старте звездолет, который готовился взлетать еще во времена моей юности, в 1980-е...
Мы знаем еще одно средоточие силы - огромную корпорацию атомного Минсредмаша СССР. Давайте возьмем только одну ее частицу - подземный наукоград Красноярск-26, ныне переименованный в Железногорск. Посмотрим на него глазами моего знакомого журналиста Сергея Птичкина.
"...Эти небольшие населенные пункты являются не только центрами создания ядерного оружия, но и средоточиями высочайшего национального интеллекта, уникальных производственных мощностей и непревзойденных технологий. В своей совокупности они составляют одно из самых больших потаенных богатств России. Китеж-грады, истинное величие которых нам еще предстоит открыть.
Из всех "закрытых городов" Красноярск-26 выделяется уникальностью почти во всем. Порой кажется, что создали его не земляне, а инопланетяне...
Когда после Великой Отечественной в СССР полным ходом шли работы по созданию ядерного оружия.., возникла Идея. Именно с большой буквы, поскольку по сути своей та Идея была не менее грандиозной, чем весь атомный проект.
В Кремле посчитали, что американские "летающие крепости" все-таки достанут до Арзамаса и Урала и разбомбят атомные центры, расположенные на поверхности земли. Сталин решил упрятать военные заводы под землю, взяв за основу опыт военной Германии. "Сумрачный германский гений" умудрился разработать технологию сокрытия в скальных породах огромных заводов, баз подводных лодок, даже целых аэродромов люфтваффе.
Летом 1950 года недалеко от Красноярска в отрогах Саянских гор был вбит первый строительных колышек. ...Самая тяжелая работа выпала на долю заключенных, собранных в специальный лагерь "Гранитный". Однако, жизнь невольников сильно отличалась от гулаговского кошмара. Кормили вполне прилично, спецодежду давали хорошую, медицинское обслуживание было квалифицированным. За ударный труд поощряли снижением сроков, причем снижение было гибким, и зек, даже имевший срок в 25 лет, мог отработать его в четыре года... Если заключенный после освобождения оставался на строительстве и заключал договор, то судимость с него снималась и после окончания контракта от уезжал на родину абсолютно "чистым". В "Гранитном" были одни уголовники, политических не привлекали по режимным соображениям. И, как вспоминают ветераны объекта, уголовники трудились с таким энтузиазмом и давали такую выработку, которую не смогли в последующем перекрыть никакие бригады коммунистического труда...
Примечательно, что смерть Вождя и амнистия для уголовных элементов холодным летом 53-го сорвали намеченный срок введения секретного объекта. Первый оружейный реактор пустили в эксплуатацию только в 1958 году, хотя город построили в 1954 и тогда дали ему сразу два имени: Железногорск и Красноярск-26.
В скальном монолите Атаманского кряжа пробивались какие-то циклопические туннели и залы, в которых тут же начинался монтаж производственных мощностей ГХК - горно-химического комбината, нацеленного на выпуск оружейного плутония. Уровень секретности был таков, что самые всезнающие разведки мира - израильская, британская и американская - до последних лет понятия не имели о сути сокрытых в Горе тайн...
Какова общая длина и общий объем спрятанных в Атаманском кряже на глубине в несколько десятков и сотен метров дорог, цехов, реакторных залов и переходов, сказать трудно... Это в несколько раз превышает выработку Московского метрополитена...
Отдавать огромную подземную недвижимость только атомщикам было во всех отношениях нерационально, и в 1959 году в Железногорске основали филиал знаменитого ОКБ-1 Сергея Павловича Королева, пользовавшегося авторитетом в Кремле не меньшим, чем Игорь Васильевич Курчатов. В туннелях на большой глубине стали размещать особо тонкое ракетное производство, требующее полного исключения всех внешних возмущающих факторов. Не имеющее аналогов в мире, это ракетно-космическое производство под руководством Михаила Федоровича Решетнева выросло в передовое научно-производственное объединение прикладной механики (НПО ПМ), способное ныне решать задачи, непосильные больше никому в мире. Впрочем, посильные, но за гораздо более высокую цену. Неизмеримо более высокую при качестве продукции куда пониже.
После основания филиала ОКБ-1 в Железногорск хлынул поток специалистов высочайшей квалификации из культурных центров Союза - Москвы и Ленинграда. Интеллектуальный уровень горожан в начале 1960-х годов оказался... гораздо выше среднестатистического по стране. И с этим можно согласиться. Ракетно-ядерно-космический симбиоз создал в Красноярске-26 атмосферу, по сравнению с которой даже жизнь академического Арзамаса-16 казалась провинциальной..."
Здесь возник действительно волшебный Город Мастеров. Со своими всегда посещаемыми библиотеками, театром, творческими кружками. Эту особую жизнь подземограда создавало то, что "он оказался, в отличие от всех остальных, полностью автономным. Этакий атомный непотопляемый линкор, имеющий на борту все необходимое для полнокровной жизни. В Железногорске есть своя подземная АЭС, и проблем с дешевой электроэнергией не возникает.
За колючей проволокой сформировалась атмосфера какого-то райского спокойствия и полной свободы. Внутри охраняемой зоны люди не были ограничены ни в чем. И работали, и жили в свое удовольствие...
Перестройку в Железногорске встретили на "ура". Город и все его производства давно переварились в собственном соку. Требовался выход гигантской человеческой энергии, соизмеримой с ядерной. Специалисты ГХК и НПО ПМ готовы были предложить стране столько наработок... для разумной конверсии оборонного производства, что... Будь в середине восьмидесятых кремлевские "мудрецы" действительно по-государственному мудры, сегодня бы каждый гражданин СНГ носил в кармане российский спутниковый телефон, имел в кейсе аппарат глобальной электронной почты, а на территории ГХК перерабатывались бы мировые ядерные отходы, оплаченные миллиардами долларов. В выигрыше были бы все. Были бы..."
Железногорск обеими руками голосовал и за Ельцина. Тогда казалось, будто он способен расковать технологическую мощь русского военно-промышленного комплекса. Потом наступило горькое прозрение. Но нас интересуют те чудеса, которые железногорцы хотели дать Империи.
"...Когда я впервые попал в бригаду спецназначения, то сразу поинтересовался: как сможет связаться с Центром группа, выброшенная, например, в Великобританию? Было это во времена существования еще мощного Союза...
Меня заверили, что проблем не будет. Даже показали сов.секретную тогда радиостанцию. Подготовленная к отправке очень большая информация сначала накапливалась в ней, а потом сжатым до мгновения сигналом уходила в эфир. Запеленговать и расшифровать передачу считалось делом безнадежным...
"Шпионская радиостанция" дает уникальную возможность обеспечить надежной связью каждый дом. ...Парадокс и абсурдность ситуации в том, что Россия, опередив весь мир в важнейшей сфере телекоммуникационных услуг, пока не воспользовалась своим приоритетом.
Лет десять назад (писано в 1997) известная американская компания "Моторола" приступила к осуществлению гигантского проекта "Иридиум". Суть его в том, что планета должна быть окружена плотной сетью многоцелевых телекоммуникационных спутников, позволяющих обеспечивать компьютерную, телеграфную, телефонную и другие виды связи абонентам в любой точке земного шара. Система дорогая и очень сложная. Даже на богатом Западе не все гладко с инвестициями в столь глобальные предприятия...
Совершенно случайно я оказался рядом с кейсом-"дипломатом", навеявшим давние воспоминания о посещении разведподразделения ГРУ. Было это за многие тысячи километров от Москвы. Спросил, можно ли связаться со столицей? Без проблем, ответили мне и раскрыли "черный чемоданчик". Компьютерная клавиатура, большой экран на жидких кристаллах, миниатюрная антенна. "Набирайте любой текст, хоть целую статью, нажимайте на клавишу передачи, и вся ваша информация мгновенно окажется в памяти "Гонца". Через 20 минут спутник будет в зоне видимости Москвы и сбросит текст на абонента. Конфиденциальность гарантируем". Это звучало завораживающе и маловероятно, но так и вышло. Телеграмму в столице получили без малейших ошибок и очень четко распечатанную. По факсу было бы быстрее, но качество и, главное, секретность передачи остались бы под большим вопросом. Да, было от чего ощутить себя в Сибири резидентом...
Новая система гражданской спутниковой связи очень нужна сегодня всем гражданам России. Так и хочется призвать "Гонца" в каждый дом! Уже сейчас, при шести ретрансляционных спутниках, она позволяет работать в режиме электронной почты на всей территории России. Позволяет определять точку своих координат. Система очень демократична, доступна самым широким слоям населения. Она в десятки раз дешевле западных аналогов и уже сегодня может обеспечить самые необходимые житейские потребности.
Если же будут выведены на орбиты все 45 спутников, то Россия получит глобальную систему связи, дающую среди прочих следующие возможности: передача факсимильных сообщений, электронная почта, доступ в сеть Интернет... Любой гражданин России получил бы возможность послать письмо в любую точку Земли и через час получить ответ. В принципе, диалог на экране можно вести и в реальном масштабе времени. Отправляясь в дальнюю поездку, было бы полезно прихватить "шпионскую радиостанцию". Она всегда покажет местонахождение хозяина, даже в незнакомом районе, в случае чего подаст сигнал бедствия, опять же с выдачей точных координат..."
Вы представляете себе то, как могла бы развернуть такой проект железногорцев Империя-Сверхкорпорация, которую возглавлял бы наш Орден? Запустить 45 спутников не представляло никакого труда для богатой страны. А дальше - создавалась акционерная русская компания. Мы могли, пока не подготовлены свои кадры финансовых управляющих, поступить, как китайцы, - пригласить на хорошо оплачиваемую службу западных управляющих. Не отдавая Западу никаких пакетов акций. За несколько миллионов долларов Орден нанял бы приличную рекламную компанию. И у нас бы нашлись сотни тысяч покупателей чемоданчиков "Гонца" в Китае и Корее, Индии и Иране, в арабском мире и в Индонезии, на Филиппинах и в Таиланде. И пусть бы США не пустили на свой рынок нашего "Гонца" - у нас находились рынки сбыта в Латинской Америке, Европе и Австралии.
Получать через несколько лет миллиард долларов абонентской платы ежегодно было вполне реально. А за счет этого продавать в рассрочку такие аппараты и внутри страны. Ничего невыполнимого здесь не было!
Я знаю и о том, что железногорское НПО ПМ работало над геостационарными спутниками марки "Галс", с помощью которых можно обеспечивать даже цифровое телевещание.
Только спутники, а не примитивные услуги по их запускам, как ныне, могли принести Империи огромные деньги. Еще в 1995 вспыхнул скандал по поводу того, что чиновники ельцинского Минобороны продавали на мировом рынке спутниковые фотографии через американскую фирму-посредник "Эриал имеджес инкорпорейтед", беря с него 50 долларов за съемку одного квадратного километра поверхности. Тогда как настоящая цена - не менее сотни. Огромный спрос на снимки выказали власти штатов, округов и городов, лесопромышленники, экологические организации. Австралийцы, голландцы, малайзийцы, люди с Ближнего Востока - вот кто стал покупателями. Легко подсчитать, что съемка миллиона квадратных километров с помощью одного спутника давала русским сто миллионов долларов. Столько же, сколько продажа миллиона тонн нефти.
В том же Железногорске можно развернуть производство сверхчистого кремния - основы для производства электронных деталей. А это не только прорыв для нашей электронной индустрии, но и первостатейный экспортный товар! В сотни раз более выгодный, чем нефть. Не прекращая работать на оборону, Железногорск становился источником пополнения нашего богатства.
И это - всего лишь один закрытый город!
Нам знакомо мнение о том, что самая большая часть русского суперэтноса, великороссы, уже отгорели как народ. Что войны и горести века двадцатого выбили лучшую часть Ивановых, Петровых да Сидоровых, и нынешние великороссы (которых неправильно называют русскими) превратились в рыхлую толпу трусов, пропойц и безнадежных лодырей, вороватых, лживых и пассивных до мозга костей. Оттого, мол, наши города грязны и убоги, в отличие от аккуратных городов Запада.
В этом есть изрядная доля истины. Но только "архипелаг" закрытых городов - и не только атомных - в нашей стране, населенных братьями-славянами, показывал совсем иное. Чистые и светлые, они до всех этих "реформ" не знали пьянства и преступности. Здесь дети каждое лето уезжали к морю на отдых, здесь можно было не запирать двери, здесь царствовала высокая культура. И даже сейчас в этих городах можно увидеть немыслимую в Москве вещь - то, как хозяева коммерческих ларьков продают товары в долг. Под честное слово. Пожалуй, грады сии служили центрами притяжения самого здорового и работящего элемента. И именно такие грады-китежи могли стать точками складывания нового восточнославянского народа. Новых русских без кавычек. Именно этот "архипелаг Китеж" и должен был попасть под руку нашего Ордена.
Они становились бы не только средоточиями высокотехнологической экономики "Империи-Инкорпорейтед", но и колыбелями новой культуры. Такой непохожей ни на цивилизацию сегодняшней Россиянии, состоящей из алкоголиков, проституток, бандитов и грязных дельцов, ни на сонмище узкоспециализированных, примитивных биороботов Запада.
Города Минсредмаша-Минатома были, пожалуй, самыми яркими свидетельствами этого чуда. Красноярск-45, помимо обогащения урана и производства ракет для подлодок, делает и спутники разведки. А вот атомоград Навои в Узбекистане, в песках Кызылкумов, который начали строить в 1952, в шифрованной переписке имперских времен именовавшийся как "Среднеазиатский оазис". Здесь не только обогащают уран из руд Учкудука, но и добывают золото, редкие металлы. Как писала недавно газета "Правда", здесь свершилась настоящая технологическая революция. Шахтные стволы пробивались турбинно-реактивным методом. Обогащение руды велось самым малозатратным и чистым способом - извлечением урана из пульпы гравитационно-сорбционным способом с применением ионообменных смол. Это позволило комбинату выжить даже после гибели СССР. Комиссия Международной комиссии по атомной энергии (МАГАТЭ) в 1996 году, придирчиво обследовав здесь все, пришла к выводу об исключительной экологической чистоте производства.
"Сегодня в обжитом, уютном Зарафшане 70 тысяч жителей. Проектировали его архитекторы из Ленинграда, Новосибирска и Ташкента. И там, где был безжизненный, унылый, печальный ландшафт пустыни, возник зеленый благоустроенный город... Во чреве горы Муртунау - а кратер углубился на 400 метров - нет никаких самородков. Напротив, руды здесь бедноватые, забалансовые. Но не было в бывшем Союзе золота дешевле и удачливее зарафшанского.
Сколько золота добывают в Кызылкумах? Как и в советские времена, цифра не разглашается. Известно лишь одно: все золото до грамма у НГМК покупает узбекская казна по твердой цене, близкой к мировой. И все оно идет на пополнение золотого запаса республики. Золото Узбекистана не лежит в казне под спудом. Часть его депонируется в швейцарских банках в виде неприкосновенного залога, под которые республика получает инвестиционные кредиты по выгодной ставке процента..." - писала "Правда", отмечая: с 1992 года добыча золота здесь выросла в 1,4 раза.
Но ведь то же самое могла сделать и Империя.
Похожий на Навои Чкаловск построили в Таджикистане. Кроме урана и золота тут еще научились делать отменные искусственные алмазы.
А вот Обнинск в Калужской области, родина первой в мире атомной электростанции - еще сталинской, пущенной в 1954. Наукоград Божьей милостью, где и сейчас люди еще пытаются создать экологически чистую энергетику, являют миру новые полимерные и конструкционные материалы. Как писала недавно "Независимая газета", в Обнинске работает отличный творческий коллектив. Например, Л. Федоров в нем изобрел метод сварки, которая соединяет проволоку или листы металла в доли микрона безо всякого шва. Д.Тютюников изобрел гель, который очищает от радиационного загрязнения любые поверхности. Другой его гель очищает от ржавчины и окисления любой металл. "За этой химией приезжают за тридевять земель, а вот наладить в родном отечестве серийный выпуск изобретений - до этого руки министерских мутантов не доходят.
Дай дорогу гелям Тютюникова - и отпадет часть забот по Чернобыльской АЭС, избегнут "ржавой участи" сотни тысяч автомобилей, сотни кораблей, нефтепроводы. Сварка Федорова сбережет стране доллары, которые сейчас идут на приобретение технологий, отстающих от федоровской на порядок. Но при этом руководящие мутанты лишатся прибыли - потока долларов..."
Здесь работает Медицинский радиологический научный центр во главе с Юрием Мардынским, где внедряется метод лечения раковых заболеваний с помощью рентгеновской "линзы Кумахова", о которой я уж столько рассказал еще в "Сломанном мече...". Фокусируя рентгеновское излучение в точке, дешевая по сравнению с западной аппаратура позволяет "взрывать" раковые клетки, нанося минимальный вред здоровью пациента. Это никак не сравнить с варварской химиотерапией, которую до сих пор применяют даже на богатом Западе, где больного поневоле облучают всего, пичкая химикатами. Так, что он мучается страшными болями и лишается волос от лучевой болезни.
А Мардынский говорил мне: чудо-линзу можно будет применять и для операций на глазе. И только эта медицина могла сделать Обнинск поистине Меккой для десятков тысяч страждущих со всего света.
А подмосковная Электросталь, ныне доведенная до убожества? Еще недавно здесь работал комбинат с семью новейшими дуговыми печами, делавший отличную сталь, из которой собирали корпус воздушно-космического корабля "Буран". Здесь после 1980 года, когда Запад объявил нам экономическую блокаду после ввода русских частей в Афганистан и прекратил поставки качественных труб - именно здесь освоили производство своих, ничем не хуже. Металл Электростали шел на нужды атомной индустрии.
Здесь работал "Химпром", делавший лучшие в мире противогазные фильтры, спасающие даже от бактериологического оружия.
И что же сейчас? "Ведь нам не дают работать даже по законам рынка. Наш машиностроительный завод вынудили расторгнуть контракт эмиссары Международного валютного фонда. Дело в том, что мы выгодно торговали с Финляндией и Австрией. В результате упали чьи-то акции на Лондонской бирже металлов, и вот сразу же последовали санкции МВФ..." ("Завтра", No.48, 1996 г.)
Да ведаем ли мы до сих пор, какая мощь, какая необузданная сила скрывалась в этих городах мастеров? В какие дали необозримые могла нас вынести та русская, имперская сила?
Я знаю одно: корпорация Минсредмаша-Минатома, пусть и не свободная от множества недостатков, напоминала вот-вот готовое прорасти зерно, чей росток ломает камень. И если уж что и должно было украсить корону нашей Империи, стать жемчужиной в ее россыпи корпораций - так это именно атомная промышленность. Минсредмаш изначально, со сталинских времен создавали как ядро будущей суперцивилизации, объединив в одних стенах самую высокую науку, атомную энергетику, производство стратегического оружия и сложной техники. Как замкнутую, самостоятельную корпорацию. Сам Бог велит включить ее в наш Орден. И если этого не додумались сделать "ленивые короли" Советской России, то обязательно свершат сие новые вожди возрождаемой Державы.
Так что же скрывалось за непроницаемой оболочкой секретности в ядерной цитадели, что вызревало в ее градах-китежах?
Новейшие энергетические установки - безопасные реакторы типа ВВЭР-500, ВВЭР-1000, ВПБЭР-600, УВЭР-1200, МКР-800. Перспективные реакторы на быстрых нейтронах БН-600М, сверхэкономичные, способные работать на оружейном плутонии. Или модульные БНМ-170, из которых можно "набирать" станции любой мощности, заливая страну дешевым светом и теплом. Без дымящих труб, без кислотных дождей, без удушения собственного народа ценами и ядовитыми выбросами. Без калечения тайги и тундры ради разработки нефти или газа.
Но нет - захватившие власть нефтегазовые магнаты продолжают жечь в топках драгоценнейшее минеральное сырье, выставляя за это огромные денежные счета всему народу. Сохраняя энергетику позавчерашнего дня.
Экспорт ядерной энергетики сулил русским захватывающие перспективы. С 2025 года в мире начнутся большие проблемы из-за исчерпания нефтяных ресурсов. Примерно на полвека после этого атомные энергостанции будут пользоваться огромным спросом. Он начался уже в 1990-е, когда Иран, например, испытывая нужду в твердой валюте, решил сократить потребление нефти у себя внутри и сделал ставку на АЭС. Точно так же поступила и Индия, у которой своего горючего сырья слишком мало. Все больше надежд на ядерную энергетику возлагает Латинская Америка. Смотрите - на всем этом могли заработать мы, предлагая свои АЭС дешевле, чем Запад, на долгие годы привязывая их покупателей к себе.
Посмотрите: неподалеку от Самары расположен закрытый Димитровград, который и поныне служит местом паломничества атомщиков всего мира. Здесь расположен НИИАР - институт атомных реакторов. Здесь разработали революционный способ хранения ядерных отходов - в сухом виде, за который двумя руками схватились японцы. Ведь объем отходов атомной энергетики снижается почти в сто раз!
Здесь же разработали и уникальный способ зарядки реакторов АЭС. Традиционно в них загружают трубчатые циркониевые ТВЭЛы - тепловыделяющие элементы, в которых столбиком загружены урановые таблетки. При этом топливо в таких ТВЭЛах выгорает всего на 10 процентов даже на западных энергостанциях. После этого недогоревшее топливо надо вынимать из реактора, долго хранить, а потом перерабатывать для повторного использования. Все это позволяет намного сократить издержки производства в атомной энергетике (журнал "Итоги", 1 апреля 1997 г.). В НИИАРе с помощью русской вибротехнологии придумали делать крестообразные ТВЭЛы, отчего их теплооотдача вырастает, а топливо в них выгорает с первого использования на 30 процентов.
Ельцинский режим не может использовать эти заманчивые возможности в полную силу. Он боится окриков США, когда речь идет об Иране или Индии. Он не может кредитовать стройки - потому что деньги страны разворованы его присными, "чужими". Но Империя и ее Орден действовали бы стократ смелее и последовательнее. И если Бог даст нам победить, так будет действовать наш будущий Орден!
Именно мы, русские, сумели обойти весь мир, создавая с 1961 года космические ядерные установки - реактивные ядерные двигатели и бортовые электростанции космических аппаратов. Я расскажу о них позже. Пока же ограничусь тем, что такая техника открывала дорогу к постройке межпланетных кораблей, к устройству орбитальных станций-заводов, к освоению богатств Луны. И даже к развертыванию мощных военных спутников, которые обеспечивали русским возможность применять высокоточное оружие в любом месте планеты и засекать в океане даже самые скрытные подлодки врага.
Еще одна гордость русских атомщиков - САУ, силовые атомные установки для кораблей. Они сподобились сделать самые малогабаритные и экономичные машины в мире, работающие на перегретом паре. И можно ставить их на мирные контейнеровозы, дав стране флот будущего, сэкономив реки мазута, миллионы тонн нефти. Запад все еще отстает от нас в деле САУ. За всю историю он построил всего три мирных атомохода. Мы тут - монополисты мирового масштаба.
Опережая в этом деле всех, мы в Империи вплотную подошли к созданию плавучих, подвижных АЭС. Способных насытить дешевой энергией северные и дальневосточные земли страны. Основой их должны были послужить САУ наших ледоколов мощностью в 80 мегаватт. Только Балтийский судостроительный завод мог строить их по 2-3 штуки в год.
А помимо этого атомщики наши в последние годы СССР готовились начать производство малых электрохимических генераторов мощностью от 10 до 100 киловатт, которые могли обеспечить надежное снабжение током, теплом и горячей водой целых поселков, разбросанных на необозримых просторах Северной Евразии. "Сердцем" таких мини-станций становились тепловыделяющие элементы из распадающихся металлов, способные десятками лет давать тепло без перезарядки, превращая его прямо в электричество - за счет эффекта термопар, без всяких котлов и турбин. Эта техника, созданная для орбитальных аппаратов и межпланетных станций, должна была послужить народам нашей страны и на земле.
Что они давали нам? Каждый год наша страна вынуждена тратить сумасшедшие деньги ради того, чтобы за короткую летнюю навигацию забросить нефтяное топливо, продовольствие и массу товаров на Север и Дальний Восток. Так уж устроена наша страна: ее главные природные богатства охраняются суровыми зимами, огромными расстояниями, бескрайними просторами безлюдной земли. И чтобы добывать золото Колымы и рыбные сокровища Камчатки с Курилами, чтобы рубить лес и добывать никель Норильска, разрабатывать якутско-архангельские алмазы или газ Таймыра, нам год за годом приходится вести настоящую битву - северный завоз.
Атомные чудеса способны уменьшить эти жертвы. Уже не надо будет возить миллионы тонн органического топлива в труднодоступные места - его заменят термоэмиссионные системы и плавучие АЭС. И добыча несметных богатств холодных земель принесет русским новую силу, даст заработки сотням тысяч людей.
Минсредмаш работал на будущее даже своей высокой наукой. Здесь мы были мировыми законодателями мод. Город ученых Протвино в ста километрах к юго-западу от Москвы славился Институтом высоких энергий. Уже в пору правления Горбачева в нем началось сооружение подземного 23-километрового кольца-ускорителя частиц. Расчленение Империи остановит его. Но что давал нам этот ускоритель?
Программа работ по физике высоких энергий уже сулила целую гамму супертехнологий. Например, сверхпроводимости, создания быстродействующих русских компьютеров. Облучение страшных долгоживущих ядерных отходов АЭС интенсивными потоками нейтронов могло превращать "фонящие" тысячи лет радиоактивные шлаки в быстрораспадающиеся. Мы могли не отравлять планету жуткими могильниками.
Физика высоких энергий позволяет создать абсолютно невзрывоопасные АЭС, в коих процесс деления ядер подконтролен человеку от начала и до конца, где реакторы не могут пойти вразнос. Ибо деление ядер в них управляется пучком частиц из ускорителя.
Был создан проект быстрого освоения термоядерной энергии - план башнеобразной станции с толстенными стенами из фортфикационного бетона и стали, внутри которой раз в 45 минут взрывались небольшие ядерные бомбы. Энергия их взрывов может передаваться потокам жидкого натрия, циркулирующего внутри башни, и этот натрий потом отдавал тепло во второй - водяной - контур, который, в свою очередь, приводил в движение мощные электрогенераторы.
Но что еще ждало нас в имперском будущем! Возьмем еще один "град-китеж", нынешний Саров, а прежде - Арзамас-16 в Нижегородской области. Здесь, у холма на слиянии речек Сарова и Статиса, в 1950 развернули ВНИИЭФ - институт экспериментальной физики. Мировой центр ядерной науки. Здесь еще в начале 1970-х группа физиков под руководством Воинова и Синянского открыли эффект превращения кинетической энергии разлетающихся при делении урана осколков в лазерное излучение. Позже нашим удалось добиться впечатляющих результатов на БИГРе - большом графитовом реакторе. Оказалось, что принципиально можно строить атомные станции, в которых энергия распада ядра преобразуется прямо в световое излучение. Русская экспериментальная установка стала прообразом автономной световой станции, гораздо более современной и эффективной, нежели нынешние АЭС. Ведь они работают по принципу паровоза, сначала превращая воду в пар и посылая его крутить турбины генераторов. А здесь свет бесконтактно с радиоактивностью можно посылать прямо потребителям-обладателям высокотехнологичной техники. И одновременно появлялась возможность создания боевых лазеров с ядерной накачкой - оружия уже космических войн! Ведь наши разработали и проект небольшого ядерно-термоядерного светового реактора, способного работать на орбитальных аппаратах.
А еще во ВНИИЭФ куется и оружие. Именно здесь создают самые современные ядерные заряды. Именно тут разрабатывают мини- и микроядерные боеголовки. Да только ли их? ВНИИЭФ ведет огромную работу по совершенствованию обычных зарядов. Его физики разработали то, чему нет никаких аналогов в мире, - заряды, которые взрывом своим сжимают и выбрасывают в нужном направлении металлическое ядро, летящее со скоростью в несколько км/сек. Пробивается любая броня, даже самая хитрая - с навесной динамической защитой, слоеная, с прокладками из керамики и обедненного урана. Это - смерть любому танку или кораблю, это - превращение обычного гранатомета в неотразимое оружие.
Но это - и заряды для акустических наземных мин, которые смогут сбивать ядрами низколетящие самолеты, вертолеты и крылатые ракеты. (О мине "Темп-2" мы уже рассказали.)
Во ВНИИЭФ помогали делать снаряды, крушащие полутораметровую броню. Боеголовки зенитных ракет, которые поражают врага направленным снопом осколков при взрыве. Боеголовки противокорабельных ракет "москит" комбинированного действия, которые не только пробивают борта кораблей, но и уничтожают все внутри них объемным взрывом.
При этом ельцинские чиновники гордятся тем, что зарплата научных сотрудников ВНИИЭФ - 200 долларов. Жалкие гроши, за которые негр в Америке и посуду мыть не пойдет...
В последние перед 1991 годы на предприятиях нашего атомного концерна велась масса работ, сулившая Империи невиданный рывок. Создавалась отрасль микроэлектроники, которая выводила нас на мировой рынок. Появлялись производства архивыгодных на мировом рынке материалов - редкоземельных металлов и промышленных алмазов. Металлов и сплавов особой чистоты - скандия, осмия, вольфрама и молибдена. Технической керамики. Искусственных изумрудов. Озонобезопасных фреонов для аэрозолей и холодильной техники. Ионообменных смол - прекрасных катализаторов для резкого увеличения производства в нефтехимии, для которого не надо было наращивать добычу нефти. Химических источников электричества.
Нам есть, чем гордиться. По части технологии обогащения урана русские обогнали весь мир. Если на Западе пользуются диффузной, то наши - центробежной, отделяя драгоценный металл от примесей в быстро крутящихся центрифугах. Оттого мы тратим на обогащение урана в 30 раз меньше энергии, чем янки.
Под стать технологиям и качество инженерного корпуса, отменность людей. Например, когда Горбачев в 1989 распорядился прекратить выработку оружейного урана на Уральском электрохимическом комбинате, там довольно быстро смогли освоить выпуск полезных товаров. Например, аппаратов "искусственная почка", никель-кадмиевых аккумуляторов, способных работать в стужу и жару, кислородно-водородных генераторов электричества для космокораблей. Тут научились делать даже микроаккумуляторы марки "АА", превосходящие по качеству "варту" и "энерджайзер". Более долговечные, с неподверженной коррозии сердцевиной из никелевой ленты. Только все это оказалось ненужным "обновляемой России".
Если бы Империя не погибла от рук всякой сволочи, то мы с вами могли стать свидетелями нового экономического чуда. При Горбачеве несколько лет ушло на конверсию оборонной индустрии - на фоне пустых магазинных прилавков. И вот, когда Минсредмаш был, наконец, готов выбросить на рынок плоды своих мирных усилий, Империю убили, а потом уничтожили всякую возможность для отечественного производства "ядерным ударом" гайдаровских либерализаций, задавили дорогими кредитами банков и самыми тяжелыми в мире налогами. Мы просто не успели увидеть того, что было готово к 1992 году.
А ведь атомщики наши смогли подготовить к выпуску набор современнейшей медицинской техники. Гамма-терапевтических и радионуклидных препаратов. Рентгеновских и резонансных томографов - тех, что позволяют получать снимки-"срезы" человеческого тела в поперечном сечении. То есть, техники, которая раньше ввозилась с Запада только для "номенклатурных" клиник 4-го управления. Помню, как два года назад моей матушке понадобилась томография. Ее делали на импортном аппарате, по блату. А ведь мы могли иметь много таких машин - и своего производства!
Минсредмаш сладил прекрасную офтальмологическую аппаратуру и оптику для очков, технику для лечения рака и язв, аппараты "искусственная почка", из-за нехватки которых в СССР умирали тысячи людей. Умирают от этого наши люди и до сих пор.
Когда изучаешь список того, что готовился делать наш ядерный концерн, и того, что было убито ельцинизмом в колыбели, тебя охватывает какая-то смесь чувств. Горечи и - гордости. Ведь все это делали не в Японии или Калифорнии, не в "Мицубиси" или "Дженерал Электрик", а в Минсредмаше, среди родных берез и речек. Делали не джоны и не камимуры, а русские Ваня с Петей. И должно было стоять на тех чудесах не "мэйд ин...", а "сделано в СССР". И если бы во главе страны стоял сильный да умный Вождь, то на месте Минсредмаша могла закипеть бурная деловая жизнь, и в его закрытых городах заработали бы сотни различных фирм, но не торговцев водкой и турецкими тряпками, а производительных.
Строились заводы по выпуску кварцевого оптического волокна и оптического кабеля, лазерных приемо-передатчиков. Держава должна была получить свою, русскую волоконно-оптическую широкополосно-лазерную связь, свободную от помех и надрывного крика в телефонную трубку. Для села Минсредмаш делал 425 типов установок по переработке молока. Расчеты показывали: эта техника позволит в полтора-два раза увеличить производительность труда в нашем животноводстве, завалить страну сыром и маслом, йогуртами и кефирами своего производства.
Вспоминаю сентябрь 1991 года. Тогда бежавший за кордон предприниматель Артем Тарасов прислал Ельцину устное послание на магнитофонной кассете на тему того, что делать с распадающейся страной. Я слышал эту кассету одним из первых. Тарасов говорил - страна понесла тяжелое поражение в Третьей мировой войне. Но не все потеряно. Мол, русские - очень квалифицированные и образованные работники, и они могут производить отличные товары. Даже те, которых нет на Западе. При этом у нас - дешевые (тогда еще) энергоресурсы, низкие по сравнению с западными внутренние цены. Ельцин должен использовать это. Пусть доллар стоит много рублей, пусть ввозить товары в Россию из-за границы будет невыгодно. Зато сюда придет зарубежный капитал - чтобы на месте делать рубашки и видеомагнитофоны, автомобили и бытовую технику. Зато наша промышленность сама станет делать многое.
Этот еврей был действительно умен. И на примере Минсредмаша это видно очень хорошо. Ельцин выбрал другой путь: повышать цены и все покупать за рубежом, ни черта не производя в России. Он начал воплощать план Запада по выведению из русских нации тупиц, от которых требуется только одно: ничего не делать, спиваться и только покупать, покупать, покупать - все чужое. Выпуская для этого нефтяную "черную кровь" из родной земли, щедро выкидывая на Запад лучшие умы. С эрой "демократии" пришли скоты, которые были просто уверены - ничего хорошего русские сделать не в силах.
Но я знаю точно: в недрах позднего СССР, под привычной нам оболочкой из грязных корпусов фабрик с пыльными выбитыми стеклами, вызревала совершенно новая промышленность. Индустрия будущего, начавшая расти, словно кристалл в густом соляном растворе.
Посмотрите только на то, что удалось сделать даже при ельцинском развале! Саровский ВНИИЭФ смог разработать прекрасные взрывные технологии для нефтедобычи, геологоразведки, строительства. Сумел построить завод по выпуску искусственных хрусталиков глаза из лейкосапфира...
Мне могут сказать: да ведь все эти вещи были очень дорогими. Разве могли наши крестьяне, например, покупать новейшие установки по переработке молока? Разве по карману были бы нашим больницам образцы минсредмашевской медицинской техники?
Можно продолжить эту критику. То же самое можно сказать и о другой технике, которую делали оборонные предприятия вообще всех отраслей, а не только Минсредмаш. Мол, наши граждане и при СССР-то получали в среднем 200 с лишним рублей, и хотя это тогда равнялось (со всеми социальными благами) нынешним 500-долларовым зарплатам, все равно этого было слишком мало, чтобы русские имели мобильные телефоны от "оборонки" и чемоданчики от "Гонца". Да и директорам наших гражданских предприятий подчас было дешевле нанять четырех рабочих, нежели покупать одного робота-сварщика.
И на это у нас было оружие, называемое модным ныне словечком "лизинг". Суть сего механизма в том, что есть компания, которая оптом закупает у заводов-изготовителей дорогую технику, а потом сдает ее другим предприятиям в долгосрочную аренду-лизинг. Скажем, не хватает денег у авиапредприятия на новый самолет - его можно взять в лизинг и постепенно выкупить, используя ежегодные амортизационные отчисления и прибыль. И точно так же в лизинг можно брать сложные рыболовецкие и грузовые корабли, аппаратуру связи, медицинскую технику, тракторы, установки по переработке молока и мяса - да вообще все, что угодно.
В нашей схеме Империи-Суперкорпорации, ведомой Орденом, надо было создать несколько подконтрольных Ордену лизинговых компаний, вовлекая в них и сбережения граждан под хороший процент, и казенные деньги, и доходы от экспорта, и пуская, когда надо, печатный станок. Да-да, прибегая и к этому средству. Ведь, например, печатный станок пускают и в ельцинской Россиянии, да вот только деньги от этого, вместо того, чтобы литься в производство и оживлять его, идут в руки коммерческих банков, которые производства боятся.
Чисто технически ничего непреодолимого тут нет. Можно давать оборудование в лизинг под залог и личную ответственность арендатора. А стимулировать все это - введением платы за вредные для здоровья рабочие места, казнями и карами за нецелевое использование амортизационных отчислений, грозящих лично директорам предприятий. Тогда и новую технику покупать будут, и роботов вместо людей на опасные производства ставить. Нет ничего несбыточного - были бы только воля, разум и своя, национальная власть.
Средства на то, чтобы взять атомную промышленность и закрытые города в состав имперского Ордена и профинансировать создание новой русской техноцивилизации у нас были. Они у нас есть и сейчас, только надо их умеючи достать. Например, провести операции по аресту нескольких сотен фигур правящей ныне в России воровской группировки и "выжать" из них "добровольный перевод" награбленных денег с их секретных счетов на наши счета. Одновременно конфисковав все их имущество. Для этого не обязательно подвергать их пыткам. Есть тьма средств...
Есть и другой вариант. Начать громкие уголовные процессы против тех, кто бежал за границу с награбленным, заявив Западу: либо ты выдаешь нам этих мерзавцев, и мы выжимаем из них награбленное сами. Либо - мы полностью отказываемся от выплаты внешних долгов по твоим кредитам. При этом мы сэкономим миллиарды долларов, которые сможем вложить в технологии будущего и перспективные проекты, которые позволят России разбогатеть. Можно пойти и на другой вариант: эти отбросы крупно задолжали России, а Россия - Западу. Так мы уступаем их долги Западу. Берите их деньги себе. В этом случае мы тоже сбрасываем кабалу долгов, высвобождая деньги на настоящее возрождение Великой Руси, на строительство новой Империи - Сверхкорпорации.
Так что не смешите нас утверждениями о том, будто у русских не хватало и не хватает денег на свою атомную индустрию. Дело - за самими русскими.